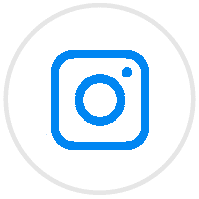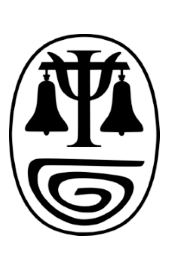Но дождем, но травою, но ветром, но пеплом, мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!
____________
Название – строки из поэмы Александра Галича «Кадиш».
ПРОЛОГ
Стефан Тупэк:
Листовки, напечатанные на польском, украинском и еврейском языках, призывали убивать и мстить за обиды «без жалости, кто чем может – топором, косой, ножом». Под воззваниями стояла подпись Тимошенко – главнокомандующего советской армии- победительницы, которая шла «освободить трудящихся от панов и помещиков», как было сказано в тех же листовках.
Беспорядочная стрельба продолжалась несколько суток, днями и ночами. Никто с ними не сражался, но им нужна была «битва». Они умерщвляли своих, я видел трупы их коней и поврежденные пушечными выстрелами дома, в которых не было воевавших с ними людей. Стреляли из пушек по нашим храмам. У приходского костела крыша стала, как решето, а костел отцов доминиканцев, памятник старины, сожгли. Людей, которые хотели спасти этот храм, не подпускали к нему.
В те же дни начали грабить магазины (…) В гимназии имени Мицкевича заперли наших офицеров. Скоро их убили, утверждая, что они оказали сопротивление во время разоружения. (…)
Так один из жителей Тарнополя[1], запомнил и через много лет описал[2] вторжение Красной армии в сентябре 1939 года.
В те дни мир словно бы перевернулся вверх дном. Настало время беспрецедентных преступлений, не только не совершаемых, но и невообразимых прежде.
Расстрел 26 700 безоружных военнопленных по приказу верховной власти страны – о таком Европа еще не слышала. Сегодня мы называем это Катынским преступлением, включая в это понятие и незаконное пленение, и содержание в спецлагерях, и сам расстрел не только тех, чьи тела покоятся в Катыни под Смоленском, но и тех, кто лежит в Пятихатках под Харьковом, в Медном под Тверью, в Быковне под Киевом и в других, пока еще неизвестных местах.
Но вот депортации польских граждан, в том числе и членов семей расстрелянных, почему-то остаются за скобками. Не потому, разумеется, что их не считают преступлением. Но кто-то первым решил, и с ним согласились, что не надо все валить в одну кучу – Катынские расстрелы сами по себе, депортации сами по себе.
Но эта искусственная автономия интегральных частей единой преступной акции есть лукавство, которым Катынь окутана так же плотно, как и прямой ложью.
Начнем с того, что это затрудняет определение мотивов катынского преступления; точнее, помогает поверить, что найти их невозможно. Не зная мотивов, трудно сказать наверное, была ли Катынь геноцидом, военным преступлением, или чем-то еще. И уж где только ни искали историки эти мотивы, как ни ломали головы, допуская самые экзотические версии! Может, Сталин мстил за поражение в польско-большевистской войне? А может, за красноармейцев, замученных в польском плену? Чем руководствовались члены Политбюро ВКП(б), приняв 5 марта 1940 г. решение, отправившее на расстрел 14 700 военнопленных, находившихся в Козельском, Осташковском и Старобельском лагерях, и 11 000 узников тюрем в Украине и Белоруссии? Никто по сей день не разгадал этой загадки и никто пока не нашел такой примерно документ:
«Я, Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), несмотря на отсутствие приличного образования, отчетливо понимал, что покорить народ и лишить его воли к сопротивлению можно только, уничтожив его элиты, что было проверено мною на примере народов бывшей Российской Империи. На них же была отработана и технология уничтожения. Поскольку подчинение Польши было в интересах созданной мною новой империи, первоочередной задачей было уничтожение ее элиты без возможности возрождения в обозримом будущем.. Во исполнение этой задачи было расстреляно 26 700 человек, а все члены их семей и родственники до седьмого колена отправлены в ссылку в отдаленные, малонаселенные и практически непригодные для жизни районы СССР».
ИЗГНАНИЕ
Данута Крывальд:
Мне было тогда 8 лет. Среди ночи, часа в два, к нам ворвались двое вооруженных мужчин. У одного был карабин, у другого пистолет. Они кричали «Собирайтесь, собирайтесь! Скорей, скорей!». Во дворе уже стояла подвода. Оказалось, что тот, который с пистолетом, говорил по-польски, он пытался успокоить маму и даже помогал паковать вещи. А мама была в отчаянии: «Что я сделала? – плакала она, – и что вы собираетесь сделать со мной и с детьми?». Мужчины, словно не слышали ее. Они продолжали выносить наши вещи и повторяли, как заведенные: «У нас приказ. У нас приказ»
Очень скоро мы оказались на улице. Впереди ехала подвода, за ней шли мама, брат и я. Шел снег с дождем. Было очень холодно.
До конца июня 1941 г. Сталин успел провести четыре массовые депортации польских граждан.
Валентина. Парссаданова, первый исследователь этой темы, так же как и польские историки считает, что в СССР были вывезены примерно 1 200 000 человек. Но в последние годы несколько российских ученых пришли к выводу, что цифра эта завышена, как минимум, в три раза.
Как могла возникнуть такая гигантская разница в подсчетах? Думаю, главная проблема заключалась в крайне своеобразном представлении Сталина о гражданстве как таковом и о том, кого считать польскими гражданами.
В СССР граждане «нетрадиционных» национальностей для вождя своими не были, он априори считал их диверсантами и шпионами тех стран, где их национальность была титульной. Особенно досталось немцам и полякам.
В 1937 году выявление «фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР» (так в закрытом письме Ежова, разосланном во все местные органы НКВД) увенчалось расстрелом 111 091 человека. После чего наступила очередь немцев, китайцев и корейцев, румын, финнов, латышей, эстонцев, болгар. В ходе так называемых национальных операций за 15 месяцев было уничтожено около четверти миллиона советских граждан.
По этой логике (если это можно считать логикой) Сталин никогда не считал жителей западных областей Украины и Белоруссии (то есть восточных областей довоенной Польши) польскими гражданами, если они не были этническим поляками. Ни когда миловал – когда после нападения Германии на СССР вынужден был освобождать польских граждан, о чем подробнее чуть позже; ни когда казнил – украинцев и белорусов арестовывали, ссылали и расстреливали с той же жестокостью, но по другим статьям, на статистику польских репрессий их страдания не влияли.
Не признавались польскими гражданами все арестованные на территории Литвы, в том числе и этнические поляки. Само собой, «не считались» многочисленные дети-сироты, попавшие в советские детдома, те, кому удалось навязать советское гражданство, и проч., и проч., и проч. Одним словом, по-разному решили бы в СССР и в Польше такую, например, задачку.
Жили-были два полицейских, патрулировавших одну и ту же львовскую улицу, поляк и украинец. У каждого была жена и пятеро детей. В 1939 г. обоих арестовали. Поляка отправили в лагерь и заставили валить лес на берегах Енисея. Украинца тоже арестовали, но тут же отпустили, а через пару месяцев – свободного от гнета эксплуататоров, дышащего так вольно, как умеет только советский человек, – призвали в трудармию и отправили валить тот же лес на той же речке. В 1940 г. их жен вместе с детьми депортировали. Обе женщины не вынесли тягот пути и умерли в дороге. Детей забрали в детский дом. Вопрос: сколько польских граждан репрессировано? «Четырнадцать», – ответили бы поляки. «Один», – сказали бы в СССР.
Первопроходцами на пути в советский ад были семьи осадников – колонистов, получивших в 20-е гг. земельные наделы на востоке Польши. Вся их вина перед советской властью заключалась в том, что они участвовали в войне 1919-1920 гг. на стороне страны, гражданами которой являлись. Впрочем, почти все герои польско-большевистской войны были призваны в 1939 г. в действующую армию и либо полегли на поле боя, либо оказались в советском плену и были затем расстреляны. Депортировались седые ветераны, малые дети, женщины и те, кто не мог участвовать в войне по состоянию здоровья.
Уже 5 декабря 1939 года Совнарком СССР принял Постановление о создании в удаленных районах страны спецпоселений для 21 тысячи семей осадников. В тот же день Политбюро ЦК ВКП(б) это постановление утвердило.
Такого количества осадников в природе не существовало. Польским правительством до войны было роздано 8 тысяч земельных участков, на которых 8 тысяч семей образовали 8 тысяч хозяйств. Столько же их и было к сентябрю 1939 года.
Для того, чтобы выполнить поставленную партией задачу, пришлось привлечь уж совсем ни в чем не повинных лесников, наскоро сфабриковав обвинение в «подготовке кадров шпионов, диверсантов и террористов».
Депортация, как и предписывалось, была произведена в один день, 10 февраля 1940 года. Даже по меркам сталинских времен она поражала своей жестокостью. 140 тысяч человек (по официальным данным НКВД) среди зимы, которая в 1940 году выдалась на редкость суровой, лишили крова и отправили в неотапливаемых вагонах на север, где для них не было приготовлено никакого жилья и где выжить можно было только чудом..
Около 10 тысяч человек умерли еще в пути – от болезней, отсутствия медикаментов, холода, стресса.[3]
Но все это было только вступлением к беспрецедентным в истории Европы, хорошо продуманным и тщательно организованным комплексным действиям, которые должны были нанести польскому народу такой удар, от которого он уже не смог бы оправится.
2 марта, то есть за три дня до того как было принято решение, отправившее на расстрел 26 700 человек, Совнарком СССР принял секретное постановление №289-127 «О выселении семей репрессированных помещиков, офицеров, полицейских и т.д.». Иными словами, родственников тех самых 26 700 пленных, которых предполагалось расстрелять.
Берия направил начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных майору Сопруненко директиву с требованием составить (в который уже раз!) точные списки заключенных. «В списках должен быть указан состав семьи каждого военнопленного и их точный адрес».
Тем же постановлением предписывалось депортировать беженцев – «прибывших на территорию западных областей Украины и Белоруссии после 1 сентября 1939 г.». Этих уж совершенно не понятно, за что. Они даже этническими поляками не были. 90 процентов арестованных в период с 28 июня по 2 июля 1940 г., и затем отправленных в ссылку, были евреями, спасавшимися от кровавых расправ, учиненных в Польше в 1939-40 годах «айнзацгруппами» СД и гестапо. Было их, по данным «Мемориала» 76 380 человек.
Еще труднее понять, чем не угодили советской власти те, которых вывезли во время четвертой депортации. Она проводилась в несколько этапов в мае-июне 1941г. и официально ее целью было «выселение из пограничной зоны и прибалтийских республик членов семей участников повстанческих организаций и формирований». Но думаю, что сами авторы этой дефиниции умерли бы со страху, если бы поверили в существования на сравнительно небольших недавно завоеванных территориях такого числа повстанцев. Только из Западной Украины и Белоруссии было депортировано без малого 100 тысяч человек (24 412 из Белоруссии и 72 206 из Украины). Это не считая тех, кого в то же время депортировали из Литвы, Латвии и Эстонии.
Осадники и беженцы направлялись в дальние районы Сибири и европейского Севера. Семьи «повстанцев» – в Казахстан, туда, куда годом раньше были вывезены родные расстрелянных офицеров, или, как мы сказали бы сегодня, катынские семьи.
Операцию по их выселению, как и в случае с осадниками, провели повсеместно в один день – 13 апреля.
Адександр Рыжинский:
Заплаканная мама спросила у одного из солдат, куда нас собираются увезти. Его наглый ответ стоит у меня в ушах по сей день: «Чего ты плачешь? Мы везем тебя к мужу». Какое ж это было бесчеловечное издевательство! Ведь этот энкавэдэшник отлично знал, что в то самое время, когда нас вывозили, в подвалах Харьковского НКВД был убит мой отец – военнопленный, офицер Войска Польского.
Александр Рыжинский ошибался. Младшие офицеры и рядовые НКВД о расстрелах ничего знать не могли. Операция и подготовка к ней проходили в строжайшей тайне. Но это «мы везем тебя к мужу (отцу)» в воспоминаниях встречается так часто, что невозможно предположить, будто авторов свидетельств подвела память. Самодеятельностью солдат, занимавшихся выселением, эти фразы тоже быть не могли. Стало быть, кто-то сверху отдал такой бессмысленный приказ. Зачем?
Зигмунд Квятковский:
За нами пришли 13 апреля. А за два дня до этого на станции появились 20 товарных вагонов. Это было плохое предзнаменование – точно такие же мы видели в феврале (во время первой депортации – С.Ф.). Было нас пятеро детей и мама. Когда на телеге нас привезли на станцию, там уже были семьи практически всех известных и влиятельных людей города. Нас погрузили в вагоны. Двери закрыли. Громыхнул огромный железный засов. Локомотив дохнул паром. Энкавэдэшники что-то закричали. Провожающие в отчаянии побежали за уходящим поездом. А мы – стар и млад, во всех вагонах, как казалось, бесконечного поезда, во весь голос, на сколько хватало дыхания в груди, пели «Не оставим землю, откуда мы родом»[4].
Нам, живущим в эпоху, не располагающую к романтизму, такой массовый патриотический порыв может показаться несколько театральным, а кому-то, может быть, и неправдоподобным. Но всё было именно так: люди, переживавшие сильнейший стресс, что-то в роде конца света – во всяком случае , их света – крушение привычного и понятного для них мира, – не знающие, что будет с ними завтра, через час, через минуту; черпали силы в патриотических песнях.. Можно сказать и по-другому: пели, потому что духовная связь с родиной, сама мысль о ней возвращали их к жизни и наполняли силой. Это подтверждают, во-первых, тысячи свидетельств, а во-вторых, – правда, косвенно, – документы НКВД.
В начале 30-х годов, когда только начались массовые ссылки так называемых кулаков, транспортный отдел ОГПУ выпустил инструкцию, в которой до мельчайших деталей регламентировались условия перевозки ссыльных -.от количества вагонов в составе поезда до того, на сколько вершков можно приоткрывать дверь вагона «для притока воздуха».
10 лет всех ссыльных в СССР, а их было немало, перевозили по этим правилам в тех же самых вагонах . Никаких новшеств не было введено (и соответственно, не появилось новых инструкций) и в 1940 г., к началу депортаций поляков. Те же нары в три этажа, та же ничем не огороженная дырка в полу, которой вынуждены были пользоваться мужчины, женщины и дети обоего пола, и которую даже через много лет все вспоминали как основной кошмар долгого пути. Так же на станциях один человек имел право принести ведро кипятка на весь вагон, так же раз в два дня выдавалась горячая пища. Не исключено, что и число осведомителей было то же самое – 1-2 на вагон.
Но оказалось, что «груз» был все-таки другой, и перед 3-й депортацией новые инструкции появляются. Среди нововведений, что правда, немногочисленных, – строжайший запрет хорового пения на всем пути следования.
* * *
Для дочери Казимежа Краковского 13 апреля был седьмым днем ее жизни. Был ли у новорожденного младенца шанс выжить в вагоне, в котором стены были покрыты инеем, но в то же время было нечем дышать, где невозможно было ни постирать ни просущить пеленки? Вопрос казался риторическим..
Девочку решили окрестить, воспользовавшись правом, данным каждому христианину, крестить некрещеного в случае смертельной опасности. Какая-то женщина предложила назвать новорожденную Анной, утверждая, что ее дочь, которая носила это имя, всю жизнь была необыкновенно везучей. Каким-то чудом счастливо выходила из многих трудных ситуаций и вчера, когда в их дом ворвались красноармейцы, она одна по счастливой случайности была вне дома.
Мать согласилась. Святая Анна – мать Богородицы и бабушка Иисуса Христа, – под патронат которой поступила новорожденная, начала с совсем простого, казалось бы, но пожалуй, самого важного чуда – воскресила надежду.
Надежду на то, что этот крошечный, беспомощный и пока еще теплый комочек плоти не остынет, но будет жить. И познает простые земные радости. Самые простые – будет бегать по зеленой траве, смеяться первому снегу, засыпать, свернувшись калачиком, рядом; что на этой земле, стремительно превращавшейся в ад, будет кого любить.
Без этой надежды вынести тяготы советской ссылки, казалось бы, многократно превосходящие силы человеческие, не смог бы никто. Да и мало кто согласился бы жить.
На маленьких ссыльных, таким образом, была возложена ответственейшая миссия; без преувеличения можно сказать, что в их слабеньких, как стебельки травы по весне, ручонках была судьба всей Польши. Несмотря ни на что, вопреки всему они должны были жить, чтобы было зачем жить взрослым.
СТЕПЬ
Мария Габиневич:
Поезд шел, не останавливаясь, день и ночь. Даже сейчас мне снится порой этот неумолкающий стук вагонных колес. Мой брат Стах пытался сориентироваться, понять, куда нас везут, и сквозь щели в вагоне читал название станций и поселков.
Однажды глубокой ночью мама разбудила нас и сказала, что мы на границе и через пару минут будем уже не на польской земле. Она хотела, чтобы мы осознанно пережили этот момент. Не спали, как и мы, многие. Я услышала, как кто-то плакал в углу вагона. Но большинство молились. Сначала порознь. Потом инстинктивно объединяясь, и, наконец, все запели единым мощным хором: «Матерь наша, Заступница! К Тебе взываем мы – дети изгнанницы Евы. Смилуйся, сделай так, чтобы мы больше не скитались». Эта молитва была у нас на устах и в сердце во все годы нашей ссылки.
Итак, Польша осталась позади. Перед нами была бескрайняя, не известная нам земля. И она не сулила нам ничего хорошего.
Мало кто из ссыльных считал, что Казахстан – это лучше, чем Сибирь, или Крайний Север. Описание красот казахской земли в воспоминаниях встречается крайне редко. Большинством Казахстан воспринимался как край, специально созданный Господом Богом для ссылок и страданий.
Это было несправедливо. Те, кому эта земля была дана как Родина, много веков жили в полной гармонии с нею. За право назвать эту землю своею с предками современных казахов и киргизов спорили кокандские ханы, китайские и российские императоры. Приходилось вести постоянные войны, в которых вчерашние союзники становились противниками и наоборот. Но это еще была беда не беда.
С ноября 1868 г. все земли казахов перешли в собственность государства российского, и сюда хлынули русские земледельцы. Только с 1906 по 1913 гг. переселилось свыше 430 тысяч хозяйств
Колонизаторы редко уважают традиции завоеванных народов, единицы понимают, что это – отточенные многими веками мудрые правила жизни на этой земле. Русские переселенцы – увы! – к этому меньшинству не принадлежали. Но даже это было пока еще полбеды. Общая численность некоренного населения пока не превысила 20 процентов, было еще кому любить эту землю, помнить ее традиции, а стало быть, на ней еще вполне можно было жить.
Настоящая беда, точнее, нескончаемая вереница бед, началась после 1917-го. Советская власть везде побеждала большой кровью, и Средняя Азия не была исключением. И голод начала 20-х не обошел ее стороной, и коллективизация тут была такой же тупой и бессмысленно жестокой.
Кочевников-скотоводов принуждали к неприемлемому для них оседлому образу жизни и сгоняли в колхозы. Даже если бы пропитание доставляли им на блюдечке с голубой каемочкой, сама по себе утрата в одночасье многовековых традиций – это был такой удар, которого казахский народ мог и не пережить. Но и пропитания, понятно, никто с неба не сбрасывал. Верблюды и барашки не сумели пастись по-новому, по-пролетарски. Начался массовый падеж скота. А поскольку веками рацион казаха состоял из молока и мяса, пришел «ашаршылык» – невиданный страшный голод, который унес полтора миллиона жизней, то есть одну треть населения.
Следующая великая беда, индустриализация, изменила лицо Казахстана до неузнаваемости.
Накануне войны Казахстан занимал первое место по производству свинца, и третье по добыче угля, – с гордостью сообщали советские учебники, умалчивая, что для этого пришлось всю огромную страну, занимающую девятое место в мире по площади – 2724, 9 тыс. км²., превратить в единый концлагерь. На территории Казахстана находились 21 тюрьма и 11 лагерей ГУЛАГа, в их числе печально известный АЛЖИР – «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Кроме того, Казахстан стал местом ссылки для сотен тысяч человек (полных данных нет по сей день).
К 1940 году казахи составляли около трети от общего числа населения Казахстана. И так теперь будет вплоть до 1991 года – земля эта станет чужой для большинства на ней живущий, а стало быть, нежилой.
В начале мая 1940 г. в Казахстан начали прибывать поезда с катынскими семьями.
Веслав Адамчик («Когда Бог отвел глаза»):
То, что мы увидели, произвело на нас потрясающее впечатление. Со всех сторон нас окружала… пустота. Она простиралась до самого горизонта и уходила дальше, за горизонт, становясь бесконечной. Иссохшая, покрытая трещинами, как ранами, земля казалась умершей. Может быть, это был зримый образ судьбы, которая нас всех ждет?
Многие так и не освоились c казахской степью; во все годы ссылки она вызывала в них чувство беспричинной тоска и тревоги.
Что правда, то правда: случись что – в степи не спрячешься. Но и врагу здесь затаиться негде. Всё открыто, никаких сюрпризов.
Но может быть, в этом-то всё и дело?
Жизнь полна неожиданностей – это один из пунктов нашего договора с действительностью. Мы согласились идти по жизни, видя перед собой только крошечный отрезок пути, в обмен на веру, что нет такой ситуации, не бывает такого сценария развития событий, при котором исключалось бы внезапное появление сияющей и великолепной, спасительной и милосердной Нечаянной Радости. Мы не знаем, ждет ли она нас вот за тем поворотом. Но нам никто не сказал также, что ее там нет. Непроницаемость будущего превращает страх перед ним в надежду, заставляет спешить ему навстречу и, в конечном счете – позволяет будущему стать настоящим.
В степи, прежде чем возникнет вопрос, что там, впереди, ответ на него уже готов: ничего. То же палящее солнце, та же пыль и пожухлая трава. И если, стирая ноги в кровь, ты будешь идти день и ночь и еще день, ты не встретишь ничего нового. Горизонт будет пятиться, расстилая перед собой все то же бесконечное грязно-зеленоватое полотно степи. И так – без конца. И это именно тот ответ, который человек меньше всего хочет услышать. Любой человек. Не говоря уж о тех, кого сегодня примиряет с жизнью только мысль о том, что завтра все может измениться, но кто сам ничего изменить не в состоянии.
Рышард Вальдемар Шпилевский:
Я точно не помню, одну или две ночи нам пришлось ночевать под голым небом, прежде чем приехали грузовики, которые должны были развезти нас по разным колхозам и поселкам. Нам и семье полицейского Лады, который служил в Больших Жуховичах, там же, где наш отец был директором средней школы, выпало жить в деревне Белоградовка. Находилась она в 230 км от Мамлутки, где нас высадили из поезда. Сразу же по приезде, прямо на улице, под голым небом, мы должны были посмотреть пропагандистский фильм о том, как большевики берут в плен польских офицеров. После чего нам пришлось еще прослушать лекцию, которую прочел нам НКВД-шник. Он утверждал, что поляки не увидят «свою Польшу, как свинья небо», так он почему-то выразился. Но несмотря ни на что мы верили, что вернемся.
Божена Михалек:
Все жили надеждой на возвращение. Не только взрослые, но и мы, дети, которые другой жизни, в сущности, не помнили. Польша была не просто страной, ни просто покинутой родиной, но неким символом, сосредоточением всего доброго и прекрасного. Мы были, пожалуй, единственным в истории человечества поколением детей, которые росли не на волшебных сказках, а на реальных воспоминаниях матерей, бабушек, старших сестер и братьев. Но их рассказы казались нам чудеснее любых волшебных сказок. Лежа в темной холодной землянке и пытаясь согреть друг друга своими худенькими телами, мы с упоением слушали рассказы мамы о домах, настолько больших, что даже очень высокие люди могли стоять в них в полный рост, а для того, чтобы достать до потолка, приходилось взбираться на лестницу. В них всегда было тепло, а прямо в стене были две трубы, по которым всегда – стоило только повернуть кран – текла вода, холодная и горячая. У каждого человека была теплая одежда и обувь без единой дырочки, а денег было столько, что можно было каждый день покупать любую еду, и даже еще оставалось.
Но главное отличие маленьких ссыльных от всех остальных детей, рожденных под солнцем, было не в этом. Всех, даже четвероногих и крылатых, как жить на земле, учат мамы и папы. Но здесь взрослые знали об окружающем мире не больше, чем новорожденные; он был не похож не только на тот, в котором они жили прежде, но и на те, о которых доводилось читать в книжках. В нем всё было иным – и природа, и климат, и система ценностей, как духовных, так и материальных.
Александр Ружиньский:
Когда 13 апреля 1940 года к нам в дом в три часа ночи ворвались вооруженные солдаты с красными звездами на шапках, бабушка была больна и лежала в постели. Солдаты заставили ее встать и, подталкивая штыками, вывели во двор, где нас уже ждала телега. Маму парализовали страх и отчаяние. Только я и брат, не понимая ситуации, начали укладывать вещи, завязав в узелок то, что мы привезли с собой, когда летом приехали к бабушке на каникулы – летние майки, сандалики, игрушки.
Разумеется, так было далеко не со всеми. Но даже если удавалось сохранить самообладание, должным образом подготовиться к предстоящей борьбе за выживание сумели единицы.
Дорогие шубы, конечно, пригодились, просто потому, что они – шубы. Но вот дорогие книги в старинных переплетах, которые зачастую составляли половину состояния их владельцев, не стоили ровным счетом ничего. Колечко с маленьким прозрачным камушком (бриллиантом) в лучшем случае можно было обменять на несколько килограммов пшеницы. Колечки с большими зелеными или голубыми камнями (бирюзой), правда, ценились несколько дороже. А вот за куклу маленькой Галины Шеврук, умевшую открывать и закрывать глаза, вся семья, то есть сама Галина, ее брат, мама, бабушка и дедушка в течение 30 дней получали по полной кружке молока.
Сосланные родственники польских офицеров имели статус административно высланных. Это означало, что они не были приговорены к принудительному труду и теоретически могли выбирать место работы, или не работать вообще. Но на практике приходилось работать там, куда поставит председатель колхоза, покидать который самовольно ссыльные не имели права даже ненадолго. Работали за несколько сот граммов хлеба, за тарелку водянистого супа, за призрачную надежду когда-нибудь, в неопределенном будущем получить плату за так называемые трудодни. Чтобы выжить многие после 10-12-часового «официального» рабочего дня еще и подрабатывали.
Халина Квятковская:
Мой 14-летний брат после работы чинил замки, лудил кастрюли, мастерил лампы «коптилки» и шкатулки для ниток; научился даже делать калоши из консервных банок. Они шли нарасхват, поскольку обуви не было никакой не только у нас, но и у местных жителей. Эта его работа давала нам основные средства к существованию. Только благодаря брату, который был старше меня всего на три года, мы все – и я, и мама, смогли пережить самый страшный, первый год ссылки.
Был еще один путь, часто – неизбежный.
Из дневника Дануты Панкевич-Кнащак:
Вчера с пани Вандой в 9 часов ночи ходила на элеватор. Мама через забор перебросила нам с полпуда пшеницы. Сегодня тоже надо идти. Мама должна перебросить для нас и для пани Х. Только бы получилось. Боже, помоги нам! Интересно, а Бог помогает ворам?
Вопрос 12-летней Дануты переставал быть риторическим в перевернутом мире, где добро и зло поменялись местами, где то, что должно и правильно, часто имело какой-то нечеловеческий оскал, а то, что постыдно и запретно, оказывалось спасительным и милосердным.
Галина Карницкая:
Несмотря на то, что можно было угодить в тюрьму за несколько поднятых с земли колосков, крали все. Поляки меньше, потому что еще не научились. Советские дети были смелее. Мы все вместе ходили зимой на самодельных лыжах за подсолнухами. В 20 километрах от нас было поле, где росли подсолнухи самосейки. Теоретически колхозные, но фактически ничьи. И вот однажды нас там застал председатель. Он отобрал у нас мешочки, которые мы успели заполнить семечками, переломал наши лыжи, а взрослую женщину, которая была с нами, забрал с собой и потом отдал под суд.
Анна Щвиркула:
Работа в колхозе имела свои добрые стороны – женщины крали зерно, мололи его в домашних условиях и пекли лепешки. Мы, дети, были уверены, что это зерно «от зайчика», так нам говорили взрослые, чтобы мы не знали, что оно краденое. Я узнала об этом только тогда, когда кто-то выдал женщин, и их арестовали и отвели в сельсовет. Наша «хозяйка», русская женщина по имени Филька, в доме которой мы жили, выкупила маму и других женщин за самогон. Я знаю об этом, поскольку в нашем доме много об этом говорили, даже и после войны. Филька гнала самогон постоянно, и мама помогала ей в этом. Не раз среди ночи в дом Фильки являлись контролеры. Тогда она прятала бутылки с самогоном под мой матрац, где, к счастью, искать алкоголь никому не приходило в голову. До сего дня помню, как мне было страшно.
Так дни шли за днями. Какие-то исчезали бесследно, какие-то врезались в память навечно.
Мария Матлаховская:
Поздний вечер. Зима. Мы едва различаем друг друга в тусклом свете самодельной лампы-коптилки. Ждем маму, которая еще не вернулась с работы. Холодно. Обычно мы топили печь и что-то готовили, когда возвращалась мама. Но на сей раз ее не было как-то уж особенно долго, и мы решили сами растопить печь и приготовить ужин – вот мама обрадуется, когда придет, замерзшая и голодная. В том, что она придет, у нас сомнений не возникало. Мамы не могло не быть, как не бывает, чтобы не было воздуха, неба над головой, земли под ногами. Нам долго еще пришлось ждать, поддерживая огонь в печурке, с готовым ужином в виде нескольких мороженых картофелин. Наконец мама пришла. Но возгласов радости, которых мы ждали, не последовало. Мама молча опустилась на лавку у стола, а когда мы подошли к ней, обняла нас и заплакала. Через много лет уже в Польше, она рассказала, что в тот вечер ее вызывали на допрос. Обвиняли в шпионаже в пользу Германии. Оказывается, нам пришла посылка от дедушки с бабушкой, которые жили в Олкуше, находившимся в границах Германии. Посылку мы не получили, но на допросы маму вызывали еще несколько раз.
Генрих Соля:
Я ходил в школу. Нас учили, что Бога нет. Сделали в потолке две дырки. Комендант подошел к одной из них и крикнул «Бог, бог, дай пирог». Ну и ничего не произошло. Потом он подошел ко второй дырке и закричал: «Советы, Советы, дайте конфеты». И из дырки посыпались конфеты. Комендант весело засмеялся, а польские дети разбежались.
Галина Млынчак:
Прямо за нашей деревней было одно место, где почти на поверхности земли было множество человеческих костей. Говорили, что во время революции туда свезли священников со всех окрестных сел и деревень и расстреляли. Потом растоптали трупы лошадьми и запретили хоронить. Как раз через это место проходила дорога, которой я ежедневно носила брату, работавшему на колхозном поле, еду. Боже, как же я боялась! Всё время, пока шла мимо этого места, я не переставая крестилась на все стороны и дрожала, как осиновый лист. Но маме не признавалась, что я так сильно боюсь духов. И зря. Теперь-то я понимаю, что мама, скорее всего, сумела бы мне объяснить, что бояться следует только людей. И еще – «духа коммунизма».
Анна Краковская:
Зимы были суровые. Сильные морозы и снежные метели, которые здесь назывались буранами. Когда они начинались, из дома никто выйти не мог. Становилось темно от снега. Если кому-то необходимо было выйти наружу, например, за водой – бураны продолжались несколько дней, – то он должен был привязать себя веревкой к двери дома, иначе он не смог бы вернуться. Однажды два парня и девушка вышли из дома во время бурана и хотели попасть к соседям, которые жили напротив. Они не вернулись, а их тела нашли далеко в степи, когда растаял снег.
Но бураны заканчивались, и дети выбирались из холодных, мрачных землянок наверх, где ослепительно сверкал снег и сияло солнце. Там тоже было холодно, и не меньше, чем в землянке, мучило не покидающее ни на минуту чувство голода. Но солнце светило так ярко, так победно, что каждый, даже самый маленький несмышленыш понимал: ни одно несчастье не длится вечно. Еще чуть-чуть, еще совсем немного и – будет, будет Радость…
МАРШ-БРОСОК СО ДНА АДА
Из дневника Дануты Реклайтес:
1 сентября 1941 года. Вчера мы узнали такое, что никому из нас и во сне не снилось. Генерал Сикорский заключил договор с Советами: должна быть амнистия, все офицеры пойдут в польскую армию. Может, папа приедет к нам, может, тетя Ядзя.
Поезда, увозившие в «отдаленные районы СССР» жертв последней, 4-й депортации, еще не успели добраться до мест назначения, а политический климат в стране кардинально изменился. Через месяц после нападения Германии Советский Союз возобновил дипломатические отношения с Польшей. 30 июля 1941 г. в Лондоне Иван Майский, посол СССР в Великобритании, и польский премьер-министр Владислав Сикорский в присутствии британского премьер-министра Уинстона Черчилля и министра иностранных дел Энтони. Идена подписали двустороннее соглашение, обязуясь оказывать друг другу помощь в войне против Германии. Правительство СССР признало утратившими силу советско-германские договоры 1939 г., касающиеся территориальных изменений в Польше, и в специальном протоколе обязалось предоставить «амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве военнопленных, или на других достаточных основаниях». Из их числа планировалось сформировать на территории СССР польскую армию.
Ее создание и в дальнейшем командование ею Владислав Сикорский первоначально намеревался поручить генералу Станиславу Халлеру. Но известный всей стране герой, дважды награжденный высшей военной наградой Польши, орденом Virttuti Militari, как сквозь землю провалился. Его не было ни в одной советской тюрьме, ни в одном лагере, ни в одном спецпоселке, и никто не мог сказать, куда он делся после того, как весной 1940 г. его увезли из Старобельского лагеря.
О том, что генерала Халлера, как и почти всех узников этого лагеря расстреляли в Харькове, станет известно только через полвека, когда на территории СССР будут открыты еще две «Катыни» – в Пятихатках под Харьковом и в Медном под Тверью. В 1941 году отсутствие сведений о генерале казалось возмутительным, но все-таки недоразумением, которое рано или поздно разрешится. Однако времени ждать не было. И командующим польской армии был назначен 49-летний генерал Владислав Андерс.
В советский плен он попал тяжелораненым в сентябре 1939 г. Из военной больницы был переведен во Львовскую тюрьму, а затем, как особо опасный враг советской власти, в Москву на Лубянку.
4 августа его почти с почестями освободили и выдали очень смешной документ, подписанный первым заместителем наркома внутренних дел. Меркуловым:
«Совершенно секретно. Удостоверение. Предъявитель сего гр. АНДЕРС Владислав Альбертович имеет право свободного проживания в гор. Москве. Адрес: ул. Красина корп. Б дом №1/7, кв. 103».
Совершенно секретное удостоверение, которое надо предъявлять постовым и управдомам, и разрешение свободно проживать по строго определенному адресу, можно выдать только в глубоком шоке. Весьма вероятно, что именно в таком состоянии и находились как отдельные чиновники, так и государственная машина в целом, вследствие необходимости совершать действия, противные их природе – освобождать заключенных.
Мария Свида:
3 октября перед нами открылись ворота лагеря. Русские были потрясены не меньше нашего – узников, даже осужденных несправедливо, там на свободу отпускают редко. Те, кто постарше, говорили: «Это чудо. Настоящее чудо. Такого в России еще не было».
Чудеса, если честно, получались несколько неуклюжими, с родимыми пятнами темного прошлого. А вы думали, это легко – вот так взять и освободить кого бы то ни было в стране, в которой никто не свободен?
Так, в постановлении Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О порядке освобождения и направления польских граждан, амнистируемых согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР», принятым в один день (12 августа 1941 г.) с самим указом, черным по белому было написано: Освобожденным польским гражданам разрешается свободное проживание на территории СССР. Но далее следовало невинное, казалось бы, слово за исключением.
Что ж, исключения подтверждают правила, без них не обойтись. Ясно, что в их число входили прифронтовые районы, например. Но список исключений был длинным. Сюда входили режимные города всех категорий, приграничные районы, местности, расположенные вблизи секретных объектов и проч., и проч., и проч. После исключения всех исключений гигантская территория СССР съеживалась до размеров крошечных городков и поселков в отдаленных малозаселенных районах, таких же, в каких польские граждане жили и до амнистии. И стало быть, благоразумнее всего было оставаться на месте.
Воссоединение семей, на что так надеялись все поляки в СССР, на деле тоже происходило нечасто. Люди просто не знали, где искать своих близких, никаких сведений о них им не предоставляли.
Ванды Зволак:
На станцию прибывали вагоны, из которых выходили оборванные, небритые, ужасающе худые люди и спрашивали, есть ли здесь польские семьи. «Есть, есть!» – кричали мы. Они называли фамилии – нет ли здесь таких? – но на моей памяти повезло только нашему отцу. Он нас нашел! Это казалось невероятным. За все эти годы я так и не нашла слов, которые хотя бы отчасти могли передать то, что мы почувствовали, когда его увидели. Он был в той же самой одежде, в которой его арестовали; меня это почему-то особенно потрясло; вшивый, покрытый какими-то язвами и с кусочком хлеба в кармане. Сколько дней он ничего не ел, этого никто не знает, но приехать к детям без гостинца он не мог.
Из дневника Дануты Реклайтыс:
11. XI.1941 Ну не везет нам! И нам и всей Кара-Гуге Почти в каждый колхоз и поселок приехал хотя бы один освобожденный узник. А в нашу Кара-Гугу – никто. Мама написала открытку пану Стащоре с вопросом, не знает ли он чего-нибудь о папе. Ждем ответа.
28.I. 1942 Сегодня утром к нам приехал пан Стащор. Он был с папой в Козельске. Рассказывал, что в то время папа чувствовал себя хорошо и был здоров. Потом пану Стащору увезли куда-то под Москву. О большинстве офицеров ничего не слышно (…) Боже, Боже, когда же мы увидим папочку и увидим ли вообще?!
Но даже если внешне ничего не менялось, – если по-прежнему не было вестей от близких, всё так же кружилась голова от голода, а кусок мыла казался немыслимой роскошью, – люди совершенно по-другому стали относиться и к самим себе, и к жизни. Замки были сорваны, клетки взломаны.
«Возвращение людям веры, надежды, чувства человеческого достоинства – было, вне сомнения, одним из главных достижений договора Сикорского-Майского», – писал польский посол в Москве Станислав Кот.
Огромной победой польской дипломатии было то, что на территории СССР удалось открыть 807 официальных представительств польского посольства. Это были небольшие организации, в которых работали от 2 до 4 сотрудников, но они делали великое дело.
Распределение гуманитарной помощи, организация приютов для осиротевших детей, инвалидов и стариков – только одна сторона их деятельности. Очень важная, но не единственная. Даже сам факт существования представительств посольства своей родины избавил сотни тысяч людей от ощущения гражданского сиротства. Людям выдавали польские паспорта. На основе опросов и свидетельств составлялась картотека польских граждан в СССР Это позволяло контролировать выполнение указа об амнистии и бить во все колокола, когда становилось известно, что кого-то незаконно продолжают держать в заключении
А в таких случаях недостатка не было. Освободив формально, находили сотни способов помешать фактически этой свободой воспользоваться – месяцами не выдавали документы, не продавали билеты на железнодорожных станциях, не говоря уж о том, что абсолютному большинству бывших узников купить их было просто не на что. 19 августа Берия распорядился выдавать деньги на проезд к местам формирования польской армии освобождаемым из спецпоселков и лагерей полякам. Но уже через неделю, 26 числа того же месяца, отменил свое решение. Мало этого, бывали случаи, когда поезда, которые должны были отвезти людей на призывные пункты, увозили их совсем в другую сторону.
Станислав Зах:
«Фактически я был освобожден только 1 сентября 1941 г. Тогда собрали нас около 2500 человек и отправили на юг, якобы в польскую армию. В пути повсюду на станциях сотрудники НКВД говорили нам, что никакой польской армии не существует. Привезли нас в Фарабу, оттуда 900 км по реке Аму-Дарья до Аральского моря – в колхозы. Мы были отрезаны от мира и не понимали, что происходит. Мы объясняли себе это так: поскольку идет война, стало не хватать рабочих рук, вот нас сюда и привезли. Жизнь в колхозе была страшной. Случалось, что мы по три дня не имели во рту маковой росинки. Наконец, мы начали есть собак и кошек. Только 13.02.1842 г. мы были вызваны польско-советской комиссией и 12 марта из колхозов прямиком поехали в Персию.
Саботаж решений правительства, одобренных обожаемым Сталиным, – для СССР явление совершенно невероятное. Несмотря на утверждение Главной Военной Прокуратуры, что в Советском Союзе могли быть случаи превышения власти должностными лицами (именно так, напомню, был классифицирован Катынский расстрел), я по старинке продолжаю считать, что ни одно такое лицо и чихнуть бы не посмело без согласования с вышестоящими инстанциями.
Историк Наталья. Лебедева в статье «Армия Андерса в документах российских архивов» приводит любопытный факт.
Протестуя против задержки с освобождением и против методов обращения с уже амнистированными людьми, бывшие военнопленные генералы Е.Волковицкий и В.Пшездецкий сообщали главе военной миссии в СССР З.Шишко-Богушу о том, что военнопленные сталкиваются в лагере «со злонамеренно некультурным отношением и моральным террором», их принуждают отвечать на вопросы, противные чести, вступать в Красную Армию, оскорбляют польские вооруженные силы и т.д. Оправдываясь перед руководством, начальник Грязовецкого лагеря Н.И.Ходас писал: «Все события в лагере, происходившие за период после 31 июля, освещались начальнику УНКВД (по Вологодской области. – Н.Л.) капитану госбезопасности тов. Галкину. В курсе дела держался всегда и секретарь Обкома ВКП(б) т. Комаров. Мне следует отметить, что на мои действия эти товарищи отвечали одобрением, с указанием на полное понимание мною своих задач, а потому и правильные мероприятия».
И тем не менее люди шли на призывные пункты непрерывным потоком. Феликс Конарский, известный польский поэт и актер, будущий автор «Алых маков на Монте Кассино», говорил, что в то время все поляки на территории СССР делились на две категории: те, кто был в армии Андерса, и те, кто больше всего на свете хотел там быть.
Стефан Ожеховский:
Необходимо было иметь развитое воображение и буйную фантазию, чтобы поверить, что эти человеческие тени, пережившие издевательства, больные, ободранные, в подавляющем своем большинстве без обуви, с ногами, обмотанными какими-то тряпками, скоро будут настоящими солдатами.
Однако они ими стали, как и сам Стефан Ожеховский, принятый в армию в чине поручика и в ту пору сам больше похожий на привидение.
Ежи Гробицкий (ныне полковник)
«Генерал Андерс еще бледный, ходит с палочкой, но полагаю, что это скоро пройдет. (…) Я много видел в жизни, но эту сцену, когда 25 августа он прибыл в наш лагерь возле Вологды, чтобы объявить об окончании нашего плена – я не в состоянии описать даже приблизительно. Еще сегодня, когда я пишу эти слова, слёзы выступают на глазах при воспоминании об этом моменте. Это ликование, чувство торжества среди колючей проволоки, за которой мы жили, или скорее, влачили жалкое существование, столько месяцев! Внезапное появление нашего командира армии в этом чистилище вызвало святой экстаз (…) А потом невиданный энтузиазм: мы снова свободные и снова можем бороться против нашего врага вплоть до победного конца.
Поначалу предполагалось, что польская армия на территории СССР будет состоять из двух дивизий по 10 тысяч человек в каждой и одного запасного полка численностью 5 тысяч человек. Но 25 тысяч добровольцев вступили в польскую армию уже к середине сентября. А люди все шли и шли. И не только военнообязанные. Приходили женщины в надежде найти своих мужчин – мужей, отцов, братьев, сыновей (многих из них скоро будут звать катынскими вдовами); и еще – дети..
Вероника Хорт («Дети скитальцы»):
Ее можно было принять за куклу, наскоро связанную из старых тряпок, но при этом необъяснимым образом способную двигаться и говорить.
– Есть, – это было ее первое слово. – Пани, есть! – повторила она голосом очень похожим на голос профессиональных нищих, и намертво вцепилась в первую юбку, которую перед собой увидела. – Есть, – еще раз пропищала она жалобно (…)
– Кто тебя сюда привел?
– Я сама пришла, – ответила «кукла» и гордо подняла головку.
– Но как?!
– А вот так, – и вдруг начала скачками передвигаться по залу, то останавливаясь, словно бы в изнеможении, то опять подпрыгивая, как будто пробиралась среди снежных сугробов.
– Как тебя зовут?
– Касюня.
– А фамилия?
– Касюня.
– Это имя. А фимилия?
– Касюня, – упрямо и с обидой повторила малышка, готовая расплакаться.
Вероника Хорт – это псевдоним королевы довоенной польской эстрады Ханки Ордонувны (впрочем, это тоже псевдоним, настоящее имя – Мария Анна Петрушинская). Она не избежала советской ссылки, потому что, во-первых, была буржуазно красива, а во-вторых, ее муж, Михал Тышкевич, был графом, за что его и арестовали еще в 1939 г.
После подписания договора Сикорского-Майского Ордонувна работала в одном из представительств польского посольства и по-женски, зубами и ногтями вырвала у судьбы и советской власти 200 польских сирот, которых с помощью Международного Красного Креста переправила в Индию. «Дети скитальцы» – это книга о них, которую Ордонувна написала и издала в 1948 году в Бомбее под никому не известным псевдонимом. из опасения за судьбу своих родственников, оставшихся в ПНР.
Дети, которых пришлось спасать генералу Андерсу, исчислялись тысячами, и проблемы, которые ему пришлось решать, не имели аналогов в истории.
Збигнев Круль, бывший узник Вологодского лагеря:
Я был поражен количеством детей, которых мы видели на всем пути следования. Они были на каждой станции, иногда шли вдоль железнодорожных путей, как я потом узнал, в надежде, что если поезд на минутку остановится, то удастся в него запрыгнуть и хоть какую-то часть пути проехать. Дети были самых разных возрастов, все очень худые, грязные и буквально едва держались на ногах. Как они могли преодолеть такой путь, который и для взрослых нелегок, знают только их Ангелы-Хранители. Думаю, их вел инстинкт выживания, который в детстве очень силен; и он говорил им, что это их последний шанс.
Что было делать Андерсу? Он был солдатом – прирожденным, от Бога, а это значит, что самым мощным инстинктом, который жил в нем, был инстинкт защиты слабых. К тому же он был полномочным представителем Родины, той самой Родины, которой приносят присягу, клянутся в любви и верности и зовут Матерью. И для того, чтобы это не было пустым ритуалом, в определенные моменты Родина-мать должна сойти с пьедестала, повесить нимб на гвоздь у входа и начать вычесывать вши, промывать гноящиеся раны тем, у кого другой матери просто не было.
С подростками, которым до призывного возраста не хватало лет двух-трех – ну пяти, кто считает! – было проще всего. Андерс просто распорядился принимать в армию всех желающих без возрастных ограничений. С маленькими было сложнее. 12 сентября 1941 г. Андерс издает приказ о создании военных молодежных формирований и школы кадетов в Бузулуке и Тоцком. Таким образом, удалось легализовать еще около четырех тысяч «детей полка». Как быть с остальными?
Продовольственных пайков выдавалось 25 тысяч и ни одной крупинкой больше, при этом, как и всё в России, с перебоями. Местами формирования польских дивизий были летние военные лагеря близь села Татищево под Саратовом и села Тоцкое в Оренбургской области. Они представляли собой несколько наскоро сколоченных из тонких досок летних домиков без отопления и площадок для установки брезентовых палаток. Никакого другого жилья ни для взрослых, ни для детей не было. Можно было еще вырыть землянки. Но для этого тоже были необходимы хотя бы самые примитивные стройматериалы и инструменты. А их не было. Теплой одежды, белья и лекарств тоже не было..
Англичане, к которым Сикорский обратился за помощью, согласились помочь и продовольствием, и вооружением. Но при условии, что места формирования польских дивизий будут перенесены на юг, поближе к персидской границе
3 декабря 1941 г. Сикорский встретился со Сталиным, чтобы обсудить такую возможность. Он предлагал также закончить формирование армии за пределами СССР, в Иране, например. А затем, когда процесс будет завершен, вернуть войска в Советский Союз. Сталина такая перспектива не вдохновила. В результате после непростых переговоров было решено следующее: поляки формируют на территории СССР 6 дивизий общей численностью 96 тысяч человек. Новое место их формирования – Средняя Азия.
Саботаж амнистии стал еще одной важной темой переговоров.
Из нее пока еще не выделился, не стал отдельной главой национальной польской трагедии вопрос о судьбе пропавших польских офицеров; еще жила надежда найти их среди тысяч других поляков, не амнистированных вопреки указу правительства. Но кроме 395 человек, освобожденных из Грязовецкого лагеря, ни один офицер на призывной пункт так и не явился…
Владислав Андерс:
Меня всё более грызла тревога, – вспоминал через несколько лет Владислав Андерс: – Со стороны советских властей – молчание или уклончивые формальные ответы. А тем временем появились страшные слухи о судьбе пропавших. Что их вывезли на северные острова за Полярным кругом, что их утопили в Белом море и т. п. Фактом было то, что ни об одном из 15 000 пропавших пленных не было с весны 1940 года никаких известий и никого из них, буквально – ни одного, не удалось отыскать[5].
Все освобожденные из Грязовецкого лагеря говорили, что до октября 1940 г. содержались в одном из трех других лагерей – Козельском, Старобельском, или Осташковском, – в каждом из которых было несколько тысяч офицеров. В апреле 1940 г. их партиями начали увозить. Куда – не известно. Это косвенно подтверждали и жены офицеров. Да, получали весточки с обратным адресом «Старобельск», «Козельск», «Осташково». Весной 1940 г. связь прервалась.
Андерс просит и тех, и других записывать имена своих близких и товарищей по неволе. Так, совместными усилиями к началу 1942 г. был составлен список, включающий почти четыре тысячи имен, который Сикорский во время своего визита в Москву передал Сталину. При этом состоялся диалог, который я позволю себе процитировать.
Из протокола беседы в Kремле
Генерал Владислав Сикорский: Уверяю вас, господин президент, что ваше распоряжение об амнистии не выполняется. Многие, притом самые ценные наши люди, еще находятся в трудовых лагерях и тюрьмах.
Сталин (делая заметки): Этого не может быть, амнистия касалась всех, и все поляки освобождены. (Последние слова адресует Молотову. Молотов подтверждает).
Генерал Сикорский (берет из рук Андерса список): У меня с собой список около четырех тысяч офицеров, которых силой вывезли и которые до сих пор находятся еще в тюрьмах или в лагерях. […] Эти люди находятся здесь. Никто из них не вернулся.
Сталин: Этого не может быть. Они бежали.
Генерал Владислав Андерс: Kуда же они могли бежать?
Сталин: Ну, в Маньчжурию.
3 декабря 1941 г.[6]
Более вразумительного ответа так и не последовало, хотя до марта 1942 г. польское посольство отправило 38 нот с вопросом о судьбе пропавших польских офицеров.
Так началась по сей день не оконченная история лжи. Лжи, надо прямо сказать, на удивление примитивной. Для меня загадка, почему с самого начала в Кремле не позаботились о создании мифа, в котором концы сходились бы с концами и который все-таки можно было бы принять за правду, будучи в здравом уме.. Ведь понятно же было после подписания договора Сикорского-Майского, что поляки будут упорно и настойчиво искать своих пропавших товарищей.
Или для Сталина это очевидным не было?..
Советский способ мышления отличается от общечеловеческого, это известно. Равно как и то, что порожденные этими отличиями проблемы могут возникнуть буквально на ровном месте. Не обошлось без них и на сей раз.
Когда Сикорский подписывал дополнительный протокол к советско-польскому договору, в котором СССР обязался освободить всех польских граждан, ему вряд ли могло прийти в голову, что простые слова «все польские граждане» можно понимать по-разному. Граждане – это граждане, все – это все, независимо от цвета волос, возраста, веса, роста, и прочих, в данной ситуации совершенно неважных различий. Что ж тут объяснять и о чем спорить? Но у советского руководства, которое в 30-е годы массово. репрессировало собственных граждан только на том основании, что они были «неблагонадежной» национальности, был другой взгляд на вещи. Обязавшись освободить польских граждан, они считали, возможно – искренне, что речь может идти только о тех, кто, обладая польским гражданством, был этническим поляком. И чтобы прекратить всякие споры на эту тему (а они, разумеется, были), 25 декабря ГКО принял специальное постановление «О польской армии на территории СССР». В нем указывалось, что в армию могут быть призваны граждане польской национальности, проживавшие до 1939 г. на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. «Граждане других национальностей, – было написано черным по белому, – проживавшие на этих территориях, призыву в польскую армию не подлежат».
С большим трудом, в результате немалых дипломатических усилий удалось отстоять малую горстку – 6 тысяч – евреев. Что касается немцев, украинцев и белорусов, то им предстояло учиться любить новую родину, как и прежде, в местах заключения.
Это был не единственный камень преткновения на пути к взаимопониманию.
Андерс решительно пресекал любую попытку нарушить тот пункт польско-советского договора, согласно которому Польская армия могла начать действовать только как единое целое (отдельные подразделения в составе других дивизий на фронт не посылались) и только тогда, когда она полностью будет к этому готова. Открыто с этим никто и не спорил. Вопрос был только в том, как понимать эту готовность.
Для советского командования было не только нормой, но и доблестью побеждать, забрасывая противника трупами собственных солдат. А к тому, чтобы стать трупами, бойцы Андерса были вполне готовы уже в тот момент, когда полуживые и полунагие, являлись в пункты формирования Польской Армии. Не в меньшей степени готовы, я бы сказала, чем советские курсанты, которые как стрелять из ружья еще не проходили, или ополченцы, которых бросали в бой с одной винтовкой на десятерых. Упорство, с которым Андерс отстаивал свое особое мнение – солдат должен быть здоров, сыт, одет, обут, вооружен и обучен, – воспринималось как чудачество, каприз в лучшем случае; в худшем – как антисоветский выпад.
Но главное, о чем Сталин не мог не думать, было впереди. Когда придет время освобождать Польшу, смогут ли стороны прийти к единому мнению о том, какой эта освобожденная Польша должна быть и что такое свобода?
Отчеты, которые присылали внедренные в армию Андерса осведомители, свидетельствовали о том, что разногласия неизбежны.
«Самым важным является факт, что эта армия является базой и вооруженной силой польской буржуазии, черной реакции, которая в соответствующий момент кроваво выступит против сознательных народных масс, – писала польская коммунистка Ванда Бартошевич. – Одно можно сказать – все они настоящие враги СССР, готовы отомстить за свои страдания <…> Те, среди которых я нахожусь, их ничто не переменит и их нужно будет только уничтожить»[7].
Уничтожить – оно, конечно, было бы проще всего. Но ситуация на фронте была не та, чтобы можно было так дразнить союзников. Приходилось искать другие способы расстаться с армией Андерса, потихоньку привыкая к мысли, что, может быть, придется сделать то, о чем еще несколько месяцев назад великий вождь и слышать не хотел, – отпустить поляков в Иран.
В марте 1942 г. Сталин сократил более чем вдвое (с 96 до 44 тысяч пайков) поставки продовольствия в армию Андерса, но одновременно позволил части «лишних едоков» выехать из СССР. С 24 марта по 5 апреля были эвакуированы в северный Иран 30 030 солдат, 10 789 гражданских и почти все «кадеты» (3 039 детей).
Всех проблем это не решило и конец несчастьям польской армии не положило.
Новые места ее дислокации оказались ничуть не лучше старых. Морозов здесь не было, но были тиф, дизентерия, малярия.. В течение лета от болезней в армии Андерса умерло три с половиной тысячи человек.
Генерал Клеменс Рудницкий:
Там были рисовые поля, которые уже несколько лет подряд никто не орошал. Но когда туда пришли польские отряды, эти поля по непонятным причинам вдруг снова начали орошать. Через два месяца 96 процентов солдат были больны малярией. Хинина не было. Несмотря на наши настойчивые требования, советские власти нам его не поставляли. Закупленная нами тонна этого лекарства лежала на таможне и пришла только тогда, когда наша армия уже покинула территорию России.
Генерал Андерс уже открыто настаивает на эвакуации в Иран всей своей армии. Черчилль активно его поддерживает. 5 июля он поручает своему министру иностранных дел Энтони Идену и британскому послу в СССР Арчибальду Кларку Керу довести до сведения советского правительства, что Англия хочет иметь польские дивизии под командованием Андерса вместе с сопровождающими их детьми и женщинами. Правительство Великобритании вполне осознает все связанные с этим немалые трудности, но это не лишает его решимости. Заявить об этом нужно, с одной стороны, решительно и даже категорично, но с другой стороны, надо представить дело так, чтобы не ранить самолюбие Сталина, дать ему возможность «сохранить лицо»,
Казалось, миссия невыполнима. Но британские дипломаты сделали это. 8 июля советские власти сообщили Андерсу о своем согласии на эвакуацию польской армии. До 25 августа были эвакуированы 70 289 человек (из них 40 400 военных). Всего СССР покинули 113 543 гражданина Польши.
Сто тринадцать с половиной тысяч спасенных душ. Сто тринадцать с половиной тысяч состоявшихся жизней. Это немало, и любой солдат мог бы этим гордиться. Историки еще долго будут спорить о том, что было бы, если бы Андерс не покинул СССР; насколько присутствие его армии на советской территории могло бы повлиять на ход событий; как выглядела бы карта мира и какова была бы судьба Восточной и Центральной Европы. Но это уже совсем другая тема.
НЕБО ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ
Генрика Василевич:
В Момбасе[8] нас, детей из детского дома и воспитателей, встретили очень сердечно и торжественно – с оркестром. Я тогда впервые в жизни увидела африканцев и африканский оркестр. Они все были в красивых, строгих мундирах и при этом босиком. Воспитательница сказала, что тут так принято.
Пройдя сотню метров под звуки этого оркестра, мы зашли в помещение, уставленное сервированными столами. Нас встречали англичанки. Похоже, наш вид – обритых наголо маленьких оборвышей, – произвел на них сильное впечатление. Они обнимали нас, младших брали на руки и хотели немедленно разобрать нас по домам и тут же усыновить. Насилу наши воспитатели объяснили им, что это невозможно.
А мы не отрывали глаз от столов, уставленных различными яствами и фруктами, большинство из которых, например, ананасы, мы видели впервые.
А потом мы ели. Много…
Иран, куда была эвакуирована армия Андерса вместе с женщинами и детьми, не мог, да и ни одна страна не смогла бы, приютить такое количество беженцев. После короткого отдыха они разъехались по разным странам и континентам. Больше всех, почти 20 тысяч человек, приняла Африка.
Геновефа Войнарович-Каспшик:
«Условия жизни, которые нам там создали, были просто великолепны! (…) Нам было там так хорошо! Нам вернули то, что украла у нас война, – мироощущение детства, доверие к миру, характерное для каждого нормального ребенка. Мы чувствовали себя в полной безопасности, знали, что окружены сильными, заботливыми друзьями. Дигглефолд[9] научил нас отличать добро от зла, сформировал нас в соответствии с теми нравственными законами, которые, собственно, и делают человека человеком.
Чтобы отличать добро от зла, нужно знать добро не понаслышке. После двух лет советской ссылки польские дети остро нуждались в лечении не только многочисленных физических болезней, но и глубоких психических травм. Необходимо было реабилитировать жизнь в глазах маленьких страдальцев; заставить их поверить, что в ней может быть что-то кроме голода и обид, что мир умеет приветливо и весело улыбаться. Африка стала для польских детей палатой интенсивной терапии, где лечили радостью.
Знаю, сегодня этот континент не ассоциируется с раем. Да и 70 лет назад взрослые, наверное, сказали бы, что лагерей беженцев, превосходящих комфортом пятизвездочные отели, по определению быть не может. Жить приходилось в маленьких домишках с примитивной меблировкой и зачастую без электричества (как таковое, оно в поселках было – работали холодильники на продовольственных складах, демонстрировались кинофильмы, – но к домам оно подведено не было). Школы и профессиональные курсы были организованы с первых же дней, но при этом не хватало книг, учебников, карандашей, бумаги, а самое главное – профессиональных педагогов. Доходило до того, что ученики старших классов преподавали в младших. Ну и наконец, климат, насекомые, тропические болезни.
Да, все это так, взрослые, как всегда, правы. Но подавляющее большинство тех, кто сегодня помнит годы, прожитые в Африке, приехали туда детьми. И увидели там реки вот такой ширины. А над ними небо вот такой вышины. Ну и, натурально, крокодилов, бегемотов, обезьян и кашалотов.
Владислава Багиньская-Полякевич:
Из порта Дар-эс-Салам[10] мы поездом добрались до небольшого городка Морогоро. А там – черные как смоль негры, пальмы, бананы, хлебные деревья, лианы. Наш лагерь был недалеко от Морогоро и располагался у подножия невысоких живописных гор, окруженных тропическим лесом, прочерченным ручьями чистой, прозрачной воды. По утрам мы просыпались от пения птиц и криков обезьян, которые скакали с дерева на дерево.
Бегемоты оказались плохими парнями – они поедали капусту, которую выращивали польские женщины, чтобы было что засолить к Рождеству. Но потерпев сокрушительное поражение в капустной войне с бегемотами, польки не пали духом и стали шинковать и заквашивать в кадушках незрелые ананасы.
Обезьяны, вообще-то, никогда и не говорили, что они пай-девочки. Ворваться в класс, довести до обморока учительницу, выхватить у детей дефицитные карандаши для них было обычным делом. Дети обижались (карандашей было жалко), но уже на Дследующий день вспоминали о безобразницах со смехом, а через 60-70 лет – с нежностью.
Что до зеленого попугая… Ах, бедные европейцы! Если бы вы могли хотя бы одним глазком взглянуть на те цвета и краски, которыми Господь раскрасил африканских птиц!
Генрика Василевич:
Наш лагерь в Макинди[11] находился в бывшей воинской части; старые казармы, окруженные высоким забором, посреди африканской степи – саванны. К забору подходили звери: зебры – они были дружелюбнее всех, жирафы, страусы, стада буйволов. Неподалеку был водопой, и звери протоптали к нему свои тропинки. Львов мы не видели. Они не подходили к лагерю, поскольку, как нам сказали, их чем-то отпугивали.
Генрику скоро удочерила одна польская женщина и вместе со своей новой семьей она переехала в другой лагерь, находящийся близ одного из городов Западной Уганды – Масинди. Здесь вокруг домиков круглый год цвели цветы, и люди жили словно бы в центре цветочной клумбы, как Дюймовочки; а главная улица носила название Делай Что Хочешь.
Кто ее так назвал и почему, мне выяснить не удалось, хотя о лагере в Масинди, казалось бы, известно всё. Он был самый крупный – в нем жили 5 тысяч человек, и теперь о нем есть кому вспомнить и рассказать.
Лагерь был поделен на сектора (деревни), между которыми были полоски вспаханной земли под огороды. Практической необходимости в этом не было. Беженцы получали в достаточном количестве продукты, одежду и карманные деньги. Многие к тому же получали деньги от родственников, находящихся в союзнической армии, или – увы! – пенсию за погибших на фронте. Так что, может, и не по-царски, но вполне безбедно жить было можно. Однако земля эта не пустовала.
Жизнь отличается от выживания наличием вещей и событий, от отсутствия которых не умирают, и возможностью заниматься тем, к чему не принуждают ни внешние силы, ни страх перед голодной смертью. Люди, которые так долго тратили все физические и духовные силы на то, чтобы выжить, теперь, наконец-то, жили – с наслаждением, на полную катушку, словно стараясь наверстать упущенное
Огороды с деликатесами, клумбы вокруг дома – это только цветочки во всех смыслах слова. Польские беженцы создавали оркестры, хоры, танцевальные ансамбли и театральные труппы. Выпускались газеты, были даже свои радиостанции. В дополнение к стандартному набору общественных зданий, построенных принимающей стороной, – почта, склад, магазин, больница, кинозал, школа, административные помещения – беженцы самостоятельно строили ателье и парикмахерские, бары, концертные и театральные залы. Храм, построенный ими, служит местным жителям по сей день.
Данута Войтович:
Это был красивый каменный храм – наша гордость и наша радость. Наверху белый орел и надпись Polonia Semper Fidelis[12]. А у главного входа по-польски, по-английски, на латыни и на языке суахили можно было прочесть: «Этот храм в честь Пресвятой Девы Марии, Царицы Короны Польской построили польские изгнанники во время своего странствия к свободной Отчизне». Несколько лет, вплоть до 1948 года мы приходили в этот костел со своими проблемами и радостями; здесь молили Бога сохранить жизнь и здоровье нашим близким, сражавшимся на фронте, и позволить нам когда-нибудь снова быть вместе.
Через много лет они вместе с детьми и внуками приедут в этот храм – теперь просто приходской храм Масинди, отыщут в зарослях бананов несколько чудом сохранившихся домиков бывшего лагеря беженцев, пройдут по поросшей травой улице Делай Что Хочешь и признаются друг другу, что годы, прожитые здесь, были самыми счастливыми в их жизни.
В Польше существует клуб «Под баобабом», объединяющий польских «африканцев» военных лет. Но не только они осознают ценность впечатлений своего нетрадиционного детства. Много написано о жизни польских беженцев в Новой Зеландии; недавно снят полнометражный фильм «Санта-Роза» о мексиканском городке с таким названием, приютившем полторы тысячи поляков. Но символом человеческой доброты – почти как святой Николай, – для бывших скитальцев стал индийский махараджа, правитель Наванагара Джам Шри Дигви Джай Сингджи Ранджитсинджа Джадей.
По большому счету самыми щедрыми были мексиканские мальчишки. Они без проблем давали «понаехавшим» польским сверстникам покататься на велосипедах – единственной своей ценности, в то время как. махараджа жертвовал всего лишь часть своих богатств. Но у него было одно преимущество перед обитателями Санта-Розы.
.Маленьким полякам, над национальным достоинством которых два года измывались, больше хлеба необходим был некто влиятельный и авторитетный, кто любил бы их родину, восхищался бы ею и готов был сказать об этом всему свету. Индийский махараджа – считай царь! – друг композитора Педеревского и премьера Сикорского, искренне и как-то по-мальчишески влюбленный в Польшу, – это было как раз то, что надо.
Даже если бы сэр Дигви Джай Сингджи вообще ничего не сделал, его имя было бы золотыми буквами вписано в польскую историю на основании одних только восхищенно блестящих глаз. Но правитель Наванагара был полонофилом деятельным.
Как только Министерство труда и социальной опеки польского правительства в изгнании приступило к организации лагерей для беженцев, сэр Дигви Джай Сингджи начал строить. в Балашади, недалеко от своей летней резиденции, лагерь, способный принять тысячу детей-сирот. Потом отправился в Палату князей и поговорил с ее членами как махараджа с махараджами. В результате в Дели возник Комитет помощи польским детям, в состав которого входили члены Палаты князей и правительства Индии, а также иерархи Католической церкви. Его деятельность обеспечила еще пяти тысячам польских сирот достойную жизнь до конца войны.
«Своим» детям сэр Дигви Джей Сингджи однажды сказал: «Вы больше не сироты. Вы полноправные жители Наванагара, а я – отец всех, живущих в этой земле, следовательно, и ваш тоже».
Эти слова породили миф, который жив и по сей день: якобы махараджа усыновил всех детей, живших в построенном им приюте. На самом деле, усыновить в прямом смысле слова тысячу иностранных ребятишек невозможно даже в такой сказочной стране, как Индия. По окончанию войны дети должны были вернуться на родину.
Но получалось, что возвращаться им было некуда. Польши, о которой мечтали, которая снилась ночами, земли обетованной, награды за все страдания, – этой Польши больше не существовало. Новая, так называемая «народная» Польша могла стать ловушкой для беззащитных сирот, и уж совершенно точно – счастья им не сулила.
12 мая 1945 г. махараджа приехал в балашадский приют на торжества освящения скаутского знамени.
«Пусть серебряные гвозди, которые мы вбиваем в древко этого знамени, – сказал он, – будут гвоздями, вбитыми в гроб врагов ваших домов и врагов свободы (…) Я всегда буду верен Польше и всегда буду ее другом, всегда буду желать вашей стране лучшего будущего. Я уверен, что Польша будет свободной, что вы вернетесь в свои дома, некогда столь счастливые, в свою страну, свободную от угнетения. Польский дух, известный во всем мире, рано или поздно отвоюет свободу вашей страны, если останется таким, каков он есть сейчас. (…) Да благословит вас Господь, и да позволит вернуться в Польшу, по-настоящему свободную и счастливую».
А что еще мог сказать мудрый махараджа? Что вообще могли ответить взрослые на немой вопрос в детских глазах?
ОКОВЫ ТЯЖКИЕ ПАДУТ? ТЕМНИЦЫ РУХНУТ?
Когда последний пароход с солдатами Андерса, переполненных до всех мыслимых пределов, уходил в Иран, на берегу остались тысячи людей, которые отдали бы все, чтобы оказаться на его борту. До последнего момента они надеялись на чудо, и я могу себе представить, что они сказали бы, узнав, что в порту были люди, которые с этого корабля сбежали. Было их где-то около сотни, никому не интересных «стукачей», как говорят в народе, или, если официально, осведомителей. Письмо Сталину, в котором они просили позволить им не уезжать вместе с Андерсом из СССР – это всё, что от них осталось.
Но был среди них один, которому суждено было записать свое имя в истории довольно крупным шрифтом, – будущий командующий 1-го польского корпуса в СССР Зигмунт Берлинг.
Полевой суд польской армии заочно приговорил его к смертной казни как дезертира и предателя. Но надо отдать должное г-ну Берлингу – с тех пор как его завербовал НКВД, а случилось это давно, еще в Старобельском лагере, он служил своему новому руководству верно, до самозабвения, с какой-то нечеловеческой преданностью.
В 1944 г., когда Красная Армия победоносно шагала по Польше, и пришел, казалось бы, звездный час Берлинга, его неожиданно отправили на три года в Москву учиться. Его – кадрового офицера Польской армии и как-никак генерала! Но он стерпел.
Он проглотил обиду, сделал вид, что не понял издевки и чуть позже, когда в уже «народной» Польше, диктатором которой он мечтал стать, его назначили заместителем министра… сельского хозяйства
Многие считают, что эти сталинские «шутки» – кара за своевольную попытку отдельных частей Берлинга форсировать Вислу и прийти на помощь восставшей Варшаве в 1944 г. Но немало и тех, кто убежден, что это – миф; что этот срыв был санкционирован советским командованием. Обреченный на неудачу в военном отношении, он должен был снизить напряжение в армии Берлинга.. Ведь контингент там был специфический, и с этим приходилось считаться.
Формирование новых польских воинских частей началось фактически сразу же после того, как Андерс покинул СССР. Первыми новобранцами были те, кто шел к Андерсу, но кого тот уже не мог взять с собой. Однако пока мобилизация проходила не то чтобы тайно – это было невозможно, но скажем так – неофициально. Еще не пришло время открыто создавать армию из граждан другой страны без участия и даже без ведома легитимного правительства этой страны.
Однако ситуация на фронте и внутри антигитлеровской коалиции менялась стремительно. И Сталин с каждым днем мог себе позволить все больше и больше. Мог развязать антипольскую кампанию в прессе; мог в ноте от 2 марта 1943 г. обвинить польское правительство в том, что его политика «ломает единый фронт славянских народов в борьбе с германским нашествием»; мог заявить, что польское правительство «не отражает подлинного мнения польского народа», то есть практически поставить под сомнение его легитимность. Уже недалек тот день, когда можно будет отбросить условности и открыто приступить к реализации своих давних замыслов – созданию новой Польши. Точнее, старой, образца времен Российской Империи. Но – лучше. Без бунтов, протестов, без неистребимого национального духа, без притягательной для многих русских аристократов европейского мышления и самобытной культуры. Одним словом, Польши тихой и покорной, существующей как бы понарошку, исключительно затем, чтобы было кому поддерживать политику СССР на международной арене.
Польские дипломаты бьют тревогу. «В советско-польских отношениях произошло неблагоприятное изменение, возникли трудности, которые явились большой неожиданностью как для польского правительства, так и для польского общественного мнения», – писал Тадеуш Ромер, посол Польши в СССР, сменивший в октябре 1942 г. Станислава Кота. 20 февраля он отправляется на встречу с Молотовым в надежде выяснить, что является причиной раздражения советского правительства. А в том, что такие причины существуют, и при желании их можно устранить, польский дипломат не сомневался. Аргумент волка из крыловской басни – «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – г-ну послу не приходил в голову.
И в своей наивности он, увы, не был одинок.
Когда 3 апреля 1943 г. берлинское радио сообщило о массовых захоронениях польских офицеров в Катынском лесу, СССР прервал дипломатические отношения с Польшей. Повторю еще раз для молодых, не впитавших с молоком матери советскую логику: не польское, а советское правительство сочло себя пострадавшей стороной и громко заявило всеми миру о своей горькой обиде.
19 апреля 1943 г. газета «Правда» писала:
«Польский народ отбросит прочь гитлеровскую клевету на братский советский народ, показавший всему миру чудеса героизма, мужества и благородства. А те из поляков, которые охотно подхватывают гитлеровскую фальшивку, поддерживают ее и готовы сотрудничать с гитлеровскими палачами польского народа, войдут в историю, как помощники людоеда Гитлера (…) Обращение польского министерства национальной обороны к Международному Красному Кресту не может расцениваться иначе, как прямая и явная помощь гитлеровским провокаторам в деле фабрикации подлых фальшивок».
Якобы подозрение в «прямой и явной помощи гитлеровским провокаторам» зародилось в сталинской голове оттого, что с просьбой обследовать катынские захоронения в Международный Красный Крест польское и германское правительства обратили в один и тот же день – 17 апреля. Существует тысячи работ, авторы которых шаг за шагом, минута по минуте отслеживают, кто написал, кто утвердил, кто и когда отправил польское обращение в МКК, доказывая, что совпадение во времени с германским обращением – чистая случайность. При желании эти работы без труда можно найти. Я же убеждена, что если бы поляки обратились в Красный Крест на день позже, на два дня раньше, не обращались бы вовсе; или бы гаркнули «Премного благодарны-с!», увидев тела расстрелянных товарищей, – в любом случае дипломатические отношения с польским эмигрантским правительством были бы прерваны. По той простой причине, что это развязывало Сталину руки.
Теперь можно было открыто приступить к формированию Польской Армии, которая должна была помочь покорить Польшу. И 6 мая 1943 г. Государственный комитет обороны (ГКО) издает постановление «О формировании 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко» под командованием Зигмунда Берлинга.
9-10 июня был созван I съезд Союза Польских Патриотов – организации, созданной на территории СССР еще в марте, но, опять же, до поры существовавшей и действующей стыдливо полуофициально. Съезд избрал высшее руководство СПП и принял Идейную декларацию, в которой были определены основные задачи организации. На почетном месте, само собой, стояла задача «создания народно-демократического государства, дружественного к СССР». Но отнюдь не без значения была и роль опекуна поляков, находящихся в Советском Союзе.
Отныне на бескрайних просторах Казахстана, Сибири и Крайнего Севера все поляки могли спать спокойно – было кому выражать от их лица и возмущение неправильной политикой польского эмигрантского правительства, и благодарность товарищу Сталину за отеческую заботу
А благодарить было за что. С конца 1942 г. начались повальные аресты сотрудников представительств польского посольства, открытых после подписания договора Сикорского-Майского. Обвинения стандартные – шпионаж. 15 января 1943 г. СНК СССР издал декрет, по которому эти представительства переходили в подчинение советской администрации. С того же примерно времени поляки, находившиеся на территории Советского Союза, лишались польского гражданства и становились гражданами СССР.
Здислава Подласка
Я была рассыльной, и потому именно мне пришлось разносить по баракам маленькие карточки – повестки, получение которых каждый должен был удостоверить личной подписью. Дело было серьезное. Вызывали всех взрослых поляков без исключения. Из нашей семьи вызвали меня и мою тетю. Мы проговорили до позднего вечера, пытаясь угадать, к чему готовиться. Решили, что надо взять немного сухарей и теплое белье. (…) Когда все, кого вызывали, собрались в назначенном месте, представитель милиции выступил с речью: «Дорогие братья поляки! Я не буду говорить вам длинных речей, хочу просто сообщить, что вам оказана великая честь. Наше государство решило предложить вам поменять гражданство – с польского на советское. Это высокое доверие, которое мы вам оказываем, является доказательством нашей дружбы. Мы защитили вас от немецких оккупантов, эвакуировав вас вглубь нашей страны. Своим трудом вы внесли вклад в дело развития Страны Советов и укрепления нашей героической армии, которая борется, защищая всех нас». Он еще долго мучил нас своими «предложениями, от которых нельзя отказаться». В конце своей речи он объявил нам, что нас по одному будут вызывать в отдельную комнату, где мы должны будем подписать соответствующий документ.
Когда настала моя очередь, и я вошла в эту комнату, низкий мужской голос предложил мне сесть на стул у письменного стола. Я осторожно села. Напротив меня сидел плотный мужчина в штатском. У него была открытая улыбка и, как казалось, доброжелательный взгляд. Быстрым движением он подал мне какую-то бумагу и попросил подписать. Глядя ему прямо в глаза, я сказала, что знаю, в чем тут дело, но ничего не подпишу. Лицо мужчины изменилось как по мановению волшебной палочки. Он помолчал минуту и потом как бы нехотя спросил, сколько мне лет. – Семнадцать, – ответила я. – Хорошо. Ты молодая, красивая девушка. За окном начинается весна, а ты хочешь гнить в тюрьме?
От слова «гнить» мне стало не по себе. – Ну и что скажешь? – спросил мужчина после долгой паузы, как бы ожидая моего раскаяния. – Ничего, – ответила я спокойно. Мужчина встал, быстрым шагом вышел из комнаты и вернулся с двумя милиционерами, которым велел вывести меня через другой вход. Мы прошли по длинному коридору. Один из моих конвоиров открыл тяжелую железную дверь и велел мне войти внутрь. В камере уже было несколько польских женщин и среди них несколько русских воровок и проституток. Они бросались на каждую «новенькую», жутко сквернословя, разрывали на ней одежду и отбирали что-нибудь. У меня они сорвали с шеи шифоновый шарфик, который мне подарила Айшат ( девушка из Махачкалы, подруга Здиславы, семья которой была сослана в тот же поселок, что семья Подласких – С.Ф.). Я искала взглядом свою тетю. Она сидела на полу у стены и тихонько перебирала четки. Я села рядом с ней и тоже начала молиться.
Сюзанна Браконецка описала процесс советизации предельно лаконично:
Поляков стали вызывать в НКВД, требуя, чтобы мы принимали советское гражданство. Многие из наших уже сидели за отказ. Наконец пришли и за нами. Мы с мамой пошли сидеть, а мой дядя Антоний получил в зубы и взял паспорт. В тюрьме мы с мамой просидели восемь месяцев. Тем временем дядя Антоний и другие пошли в польскую армию Берлинга.
Если встретите в работах советских историков сладенькую фразу о том, что в рядах армии Берлинга сражались не только поляки, но и советские граждане польской национальности, знайте, что это о них – получивших в зубы и взявших советский паспорт.
Но далеко не все вступали в ряды польской армии, повинуясь грубой силе. Были и добровольцы, и, пожалуй, их было большинство.
Станислав Косик:
В 1943 г. мы жили недалеко от железнодорожной станции, и я видел людей, которые ехали к Берлингу. Их везли в таких же вагонах, в каких мы приехали в ссылку, только эти вагоны были открыты настежь, так что я мог хорошо разглядеть тех, кто там ехал…
Все они были в лохмотьях, небритые, грязные, худые, как скелеты, с неестественно огромными глазами на исхудавших лицах, или наоборот, – опухшие от голода, с толстыми и неподвижными, как у слонов, ногами, обмотанными какими-то тряпками (…) Конечно, большинство если не понимали, то чувствовали разницу между армией Андерса и армией Берлинга, но для многих это был единственный шанс выжить.
Кшиштоф Парковский:
Я не был в армии Берлинга. Не потому, что я такой умный и все понимал в неполные 16 лет, а потому что у меня на попечении были четыре младших сестренки и мама, которая в 43 году была еще жива, хотя уже сильно болела. Можно сказать, такая судьба, или так распорядился Господь Бог. Но было бы грубой и глупой ложью говорить сейчас, что я не завидовал своим товарищам, которые в эту армию ушли. Еще как завидовал! Даже просто уехать из ненавистного колхоза – куда угодно, хоть к черту на рога – казалось счастьем. Я, как и многие, предпочел бы погибнуть в первом же бою, но польским солдатом, чем медленно, много лет гнить советским колхозником. Если бы нам сказал кто-то, что со временем придется помогать покорять свою родину советам, это, конечно, остановило бы многих. Но ведь нам говорили, что пойдем освобождать Польшу, биться с немцами. И ведь поначалу это было правдой – с немцами бились, и бились крепко. Как случилось, что Польша оказалась побежденной, но не врагами, а союзниками, – этого я и сейчас, седым стариком объяснить бы не смог. А уж предвидеть такое, будучи подростком!..
Многого из того, что случилось в дальнейшем, невозможно было предвидеть ни юным, ни старым. Ну, кто бы мог подумать, что солдаты Берлинга, кровью и потом оплатившие свой билет на родину, могут окончить свои дни в СССР?
Официально всем, уцелевшим в войне, действительно разрешено было остаться в Польше. Но почему-то их семьи, по-прежнему бывшие в Советском Союзе, не могли оттуда выехать самостоятельно, почему-то за ними обязательно надо было ехать. Понятно, что большинство поехали. И не вернулись.
Кому могло прийти в голову, что именно те, кто не сломался и не принял советского гражданства, при попытке вернуться на родину могут оказаться в худшем положении, чем бывшие польские, нынешние советские граждане?
По договору, подписанному 06.07.1945 г. СССР и Польшей, репатриации не подлежали лица, находящиеся в заключении. Любой первокурсник истфака скажет вам, что речь шла прежде всего о солдатах АК, разоруженных и взятых в плен в 1043-1944 гг.. И это правда. Но на тот момент в тюрьмах и лагерях находились также многие из тех, кто в 1943 г. был осужден за отказ от советского гражданства. Для них не было сделано исключения. Они лишались права на возвращение домой.
Все остальные, имевшие до сентября 1939 польское гражданство, могли ехать. Без проблем. И даже с оркестром. Надо было всего лишь доказать, что они не верблюды и не орлы, не трава полевая и не тучки небесные, а те самые польские граждане, которых в 1940 г. насильно вывезли вглубь СССР.
Болеслава Дольна:
Казалось бы, проще всего было – воспользоваться теми списками, по которым нас всех вызывали, чтобы навязать нам советское гражданство. Списки эти составлялись очень тщательно – никого не пропустили; и никуда они не могли деться – прошло всего два года, а мы все знаем, что такое бумага в СССР. Но этого не было сделано. Каждому из нас предлагалось доказать, что он – поляк, на основании документов, которые сами же энкавэдэшники отбирали у нас при обысках. Это было похоже на глупую детскую игру, или экзамен, когда требуется доказать то, что экзаменатору и так отлично известно, но тебя при этом всячески стараются сбить с толку.
Справедливость слов пани Дольной проиллюстрирую только одним примером. В секретном письме к Косыгину от 17 августа 1945 года председатель исполкома Кокчетавской области Ергебеков пишет:
На территории Кокчетавской области зарегистрировано 4.368 польских граждан. В специальную комиссию направлено 2.446 заявлений на выезд из СССР. Право на выезд получили 2.420 лиц. Отказано 26 лицам.
Итак, сколько польских граждан находится во вверенной ему области, тов. Ергебеков знал точно. Заметьте: не «более четырех тысяч», не «четыре тысячи с лишним», а 4 368. Почему только 2 446 человек, то есть чуть больше половины из них, подали заявления на выезд, остается загадкой. Но можно предположить, исходя из опыта, что кокчетавские власти вторую половину поляков о проводимой репатриации просто не оповестили. Но вот причина, по которой 26 полякам было отказано в праве на выезд, известна точно – в письме она была проставлена против каждой фамилии «отказников». И была она у всех одна – отсутствие документов, подтверждающих польское гражданство.
Поначалу таковыми считались паспорта, дипломы, военные билеты и другие документы, выданные исключительно государственными учреждениями. То есть именно то, что отбирали при обысках в первую очередь и чего не было ни у кого.
Через пару месяцев метнулись в другую крайность – на рассмотрении спецкомиссии можно было представить трамвайные и театральные билеты, справки о прививке коня и т.д. Казалось бы – чего уж лучше! Но чем незатейливее становились доказательства, тем в большей степени решение зависело от воли, а то и мимолетного настроения чиновника.
Дариуш Хопак:
Мама моего друга Тадека, пани Моника, уж не знаю как, сумела сохранить три письма от своего мужа из Козельского лагеря и свадебные фотографии. Наверное, очень любила она своего мужа. Все вокруг говорили: вот, хоть один раз любовь и верность будут вознаграждены на этой земле – уедет Моника с детьми без проблем. Но в спецкомиссии ей сказали, что супружество с офицером польской армии – еще не доказательство ее гражданства; женятся и на иностранках…
Конечно, мы очень переживали. Жалко было семью Тадека – это раз. А второе – получалось, что наше-то положение совсем безнадежное. У нас на всю семью было только свидетельство о моем крещении, выписанное в костеле, что при советских атеистических настроениях могло нам скорее навредить, чем помочь. Но произошло чудо – нас отпустили.
Не исключено, что члены спецкомиссии рассуждали так: женщина, умеющая хранить память о муже, не ровен час, будет хранить и чуждые социализму принципы. И зачем, скажите, такая Польше, которой предстояло стать лучшей подружке СССР?
Да, очень может быть, что какой-то тайный критерий отбора действительно существовал. Но этого мы не узнаем никогда. Равно как и того, какой процент ссыльных поляков был репатриирован, и сколько их осталось в СССР.
Станислав Важивец:
На месте никто усидеть не мог, все старались покинуть СССР – любым способом. Кто мог, добирался до Западной Украины и Белоруссии. Говорили, что оттуда по обмену уехать было проще. Были смельчаки, которые уходили в горы, к персидской границе. Мечтали добраться до Ирана, а оттуда уже в Западную Европу. Не знаю, скольким это удалось.
Кто-то пытался просто подкупить охрану и сесть в поезд нелегально. Конечно, это получалось у единиц , но каждая спасенная душа чего-то стоит. В нашем вагоне тоже кто-то ехал. Детей, понятно, в такие дела не посвящали, мы должны были сидеть тихо и не путаться под ногами. Но из того, что я видел сам, и что потом при мне рассказывали взрослые, можно было понять следующее: мужчины по очереди спаивали охрану самогоном, чтобы во время проверок те уже ни лиц не различали, ни считать не могли. Вот так, с Божьей помощью, и доехали.
Был еще один жуткий способ покинуть СССР – когда люди решали, что лучше уйти на тот свет, но не оставаться в Советском Союзе, и бросались под поезд. Слава Богу, это не было массовым явлением. Но я слышал о нескольких таких случаях.
Итак, во время первой репатриации 1945-1947 гг. из СССР выехали 320 тысяч поляков. После чего со своим особым фирменным цинизмом советское правительство заявило, что все, кто хотел, на родину вернулись, и сочло тему закрытой.
* * *
Болеслав Берут:
«Каждый, кто искренне тоскует по родине , кто хочет вернуться, может спокойно, без каких бы то ни было опасений возвращаться в свою страну и работать для процветания Польши»
В 1955 г. этими словами Берут намеревался открыть пропагандистскую акцию, которая должна была склонить поляков, живших в Западной Европе, к возвращению на родину. Однако случилось так, что выступление Берута стало сигналом к началу еще одной кампании – исторически куда более значимой.
31 июля 1955 г. директор радио «Свободная Европа» Ян Новак-Езёраньский вышел в эфир с таким заявлением.
(…) Как же горько думать о тысячах, десятках тысяч наших людей, которые через 10 лет после войны гниют в лагерях, разбросанных по всей России, без надежды вернуться (…) Возвращаются немцы, австрийцы, итальянцы – бывшие солдаты вражеских, побежденных армий. И только поляки по-прежнему остаются в России, потому что о них некому позаботиться и никто о них не помнит.
Теперь, когда коммунисты начинают лицемерную пропагандистскую кампанию, пытаясь вернуть польских эмигрантов с Запада, наша радиостанция, Голос свободной Польши, будет собирать и передавать в эфир любую информацию, касающуюся участи поляков, заключенных в России. Наше SOS мы посылаем всюду, ко всей свободной польской прессе на Западе. Пусть по всему миру звучит наш призыв, и звучит так громко, чтобы его услышали не только союзники, но и неприятели. Мы требуем вернуть на родину поляков из советских лагерей и тюрем.
Это было время, когда в Европу из СССР возвращались бывшие военнопленные. Среди них было немало товарищей по несчастью, сокамерников и солагерников поляков. Свободная Европа создала целый штат сотрудников, которые находили таких людей, опрашивали их и фиксировали их свидетельства.
Передачи о судьбах поляков в советском плену – в разных жанрах – выходили в эфир каждый день. Самые простые оказались самыми пронзительными. В течение 15 минут по несколько раз в день диктор ровным голосом зачитывал уже известные имена и фамилии советских узников.
Это звучало, как набат. То, что для «Колокола» Герцена было девизом, то есть далекой путеводной звездой, для Свободной Европы того времени стало констатацией свершившегося факта – «Зову живых, оплакиваю мертвых, сокрушаю молнии»[13].
Живые в разных городах Европы выстраивались в пикеты, собирались на манифестациях. Им важно было почувствовать, что они не только выжили в недавней войне, но и остались людьми. И с молниями, победно сверкавшими в Кремле, что-то случилось. Было бы преувеличением сказать, что они были сокрушены, но на какое-то время они словно бы оторопели.
В конце 1956 года из Советского Союза ушел первый поезд с репатриантами.
Т.Кательбах, Свободная Европа:
В большинстве своем это были очень старые люди. Вид их был ужасен. Мужчины небритые, в огромных российских сапогах, к тому же дырявых. Все в лохмотьях. Но более всего поражала их апатичность. Они производили впечатление людей, у которых всё умерло внутри, которые уже выплакали все слезы
За два с небольшим года СССР успели покинуть 259 420 польских граждан. В марте 1959 г. закончилось действие польско-советского договора о репатриации, и продлить его не удалось. Советское правительство, как и 10 лет назад, не моргнув глазом, заявило, что все поляки, желавшие вернуться на родину, давно уже в Польше.
Все отлично понимали, что это ложь. Сводная Европа старалась продолжить акцию, сделать достоянием гласности судьбы поляков, оставшихся в СССР. Проблема эта обсуждалась Конгрессом США. Но кремлевские молнии уже пришли в себя. Репатриация возобновилась только в 1996 году, и теперь, понятно, уже не была массовой.
ЭПИЛОГ
Позволительно ли заканчивать повествование на такой понурой ноте? Разве те, у кого хватило сил дочитать его почти до конца, не вправе рассчитывать на какой-никакой хэппи-энд?
Не спорю. Но, во-первых, большинство тех, чьи свидетельства вы читали, вернулись в Польшу, или прожили свою жизнь, а многие продолжает ей радоваться и сегодня, в США, Канаде или одной из уютных стран старой Европы. Помните маленькую Аню, новорожденную ссыльную, крещеную в вагоне без священника? Теперь ей за 70, она счастливая мать двух взрослых сыновей; а то, что хранится в ее собственной памяти, а не реконструировано по рассказам взрослых, далеко не всегда мрачно.
Анна Краковская:
Я помню это так, как если бы все произошло вчера. Однажды дверь распахнулась, и какая-то женщина, не успев даже перешагнуть порог нашей халупки, закричала: «Завтра уезжаем в Польшу!». Мы с мамой плакали, не хотели верить, всё это казалось каким-то «золотым сном». Но на следующий день рано утром нас разбудили звуки оркестра. Это местные жители прощались с нами навсегда».
Збигнев Яновский:
Проснувшись, я выглянул в окно и увидел пустой перрон, блестящий под мелким, словно бы сонным дождем. На столбе висел репродуктор. «Uwaga!» (внимание) услышал я и вздрогнул. Что такое радио, я знал – перед сельсоветом висело почти такое же. Но я и вообразить себе не мог, чтобы оно говорило по-польски. Но оно говорило. И это был не сон. Я даже не помню, о чем там шла речь – может, о погоде, может, передавали расписание поездов, да и неважно это было. Важно, что из репродуктора доносились слова, которые говорила мама, сестры, родные люди. Это могло означать только одно – мы в Польше. «Приехали!!!» – хотел крикнуть я, но почему-то не крикнул. Наверное, мне помешала какая-то особенная тишина, царившая в вагоне. Я потихоньку свесил голову со своей верхней полки и увидел, что все, кто был в вагоне, застыли, как в детской игре, или как если бы их заколдовал волшебник. Дядя Куба, наверное, собирался позавтракать, да так и застыл с поднятой вверх ложкой; Боженка замерла, как на фотографии, с заплетенной только до половины косой; мама и старшая сестра Ванда сидели, крепко обнявшись, и по щекам у них текли слезы.
На родине никого из них не ждала жизнь без проблем и огорчений. В послевоенной Польше не было десятилетия, не отмеченного массовыми выступлениями и протестами.
Но можно ли придумать более триумфальный финал истории о том, как уничтожали польскую элиту, чем день 16 октября 1978 г., когда на Святой Престол взошел Кароль Войтыла, отныне Иоанн Павел II?
Дело не ограничивалось тем, что этот человек сам по себе был элитой элит. При нем была восстановлена в правах поруганная элитарность и закончилось царствование ничтожества. Те, кто был и фактически остался ничем, но стал всем под водительством коммунистической партии, почувствовали это мгновенно.
Анджей Гвязда, один из отцов-основателей «Солидарности», впоследствии вспоминал, как в его камеру вбежал охранник с криком «Ваш Войтыла стал Папой! Знаешь?». Это было строжайше запрещено – входить в камеру к заключенным и уж тем более – говорить с ними. Но охранник был словно бы не в себе. Он ходил по камере из угла в угол и с отчаянием повторял: «Что же теперь с нами будет? Что с нами будет?».
26 лет своего необычного во всех отношениях понтификата Иоанн Павел II возрождал в людях то, что в течение нескольких десятилетий коммунистического правления выжигались из них каленым железом, – высшие способности и потребности человеческой души, человеческой мысли, человеческой личности.. Он учил людей не бояться собственного величия, того, что каждый человек – венец творенья, то есть элита сотворенного мира. «Не дай посредственности победить себя!», – вновь и вновь повторял он в своих проповедях и посланиях. – «Выплыви на глубину», то есть живи так, чтобы никто не мог сказать, что ты мелко плаваешь.
Первыми Иоанна Павла II услышали земляки. «Ты важен, – сказали они друг другу, – не позволяй обращаться с собой, как с мусором»; и написали эти слова на одной из стен Гданьской судоверфи. И вскоре простейшее слово «Солидарность», как минимум, пол-Европы, припав к радиоприемникам, переводили так: «Началось. Теперь очередь за нами».
Польша пела о том, что стены темниц рухнут и погребут под своими обломками старый мир. Надо только вырвать у них зубы-решетки и разбить оковы.[14] Получалось, может, не так складно, как у Пушкина, зато воочию было видно, что ни во глубине сибирских руд, ни в бескрайней степи Казахстана действительно не пропадает зря ни «скорбный труд», ни уж тем более – дум высокое стремленье.
Помню, в то лето я как-то зашла в московский костел, что на Малой Лубянке. Месса уже закончилась, храм опустел. Только на одной лавке сидела очень немолодая женщина. Глубоко погруженная в молитву, она была абсолютно неподвижна, так что ее можно было принять за одну из скульптур святых, а косой луч света, падавший на нее из высокого окна костела, за нимб, или ту самую дорожку, по которой ангелы уносят к Богу молитвы.
Неловко об этом вспоминать, но я тихонько подошла и заглянула в раскрытый перед нею молитвенник. На пожелтевшей, словно обгоревшей на огне времени, странице было написано по-польски «Молитва об Отчизне».
_____________
[1] С 1944 г. Тернополь.
[2] Здесь и далее используются воспоминания, отрывки из дневников и писем военных лет, хранящиеся в собраниях федерации Катынские семьи, фонда Kresy-Siberia и в личных архивах автора.
[3] . Подробнее о судьбе ссыльных осадников см. Светлана Филонова. «Я жив. Со мной ничего не может случиться».
[4] Первые слова одной из самых популярных патриотических песен Польши „Rota”, написанной в 1910 г. Феликсом Нововейским на стихи Марии Конопницкой, впервые опубликованные в 1908 г. в краковском журнале „Przodownica”.
[5] Андерс В. Без последней главы. «Иностранная литература», 1990, № 11-12.
[6] Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Londyn 1982. [Катынское преступление в документах. Лондон, 1982].
[7] Н. Лебедева. Армия Андерса в документах российских архивов.
[8] Второй по величине город в Кении, расположенный на коралловом острове в Индийском океане.
[9] Местность в Южной Родезии, ныне Зимбабве, в которой располагалась женская гимназия.
[10] Досл. «Дом мира», крупнейший город Танзании.
[11] Местность в Кении.
[12] «Польша всегда верна». Слова simper fidelis (всегда верна/верен) часто используют как девиз городов, организаций и т.п. В 1658 г. папа Александр VII закрепил этот девиз за городом Львов.
[13] „Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango“ (лат.) – эпиграф к «Песне о колоколе» (1799) Шиллера, два первых слова которого («Зову живых») Герцен использовал в качестве девиза своего «Колокола».
[14] Речь идет об очень популярной в 80-е гг. песне «Стены» („Mury”). Автор текста, Яцек Качмарский, много раз говорил, что слушатели неверно его поняли, не заметив горькой иронии в его стихах. Тем не менее, песня практически стала символом «Солидарности». Подстрочный перевод рефрена: «Вырви у стен зубы решеток, разбей кандалы, сломай плеть, и стены рухнут, рухнут, рухнут и погребут старый мир».