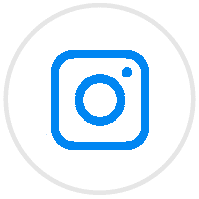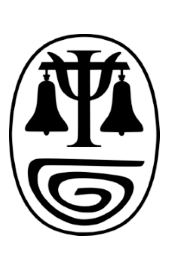Я жив. Со мной ничего не может случиться
Пока человек жив, мы редко задумываемся над тем, какое влияние он оказывает на все, что происходит с нами и внутри нас. Да это и невозможно – определить его место в густой паутине ежедневных событий, зафиксировать все импульсы, которые приходят к нам от него, или через него. И только когда он уходит, на нас обрушивается банальная, в принципе, истина о неразрывной целостности всего сущего. Отлаженный механизм нашей жизни начинает давать сбой в самых неожиданных местах; все идет не так, случается то, чего не должно быть, не происходит того, на что надеялись. И все потому, что из конструкции, которую мы так старательно строили и частью которой сами являемся, исчезло всего лишь одно звено.
Нам пришлось бы со смертью каждого близкого человека строить жизнь заново, если бы не память. Она делает прошлое сущим. Тот, кто ушел, уже ничего не скажет и не сделает, ни сегодня, ни завтра. Но то, что было построено вместе вчера, будет жить, прорастая в наше настоящее и будущее, влияя на наши выборы, реакции, видение мира.
Варшавский адвокат Станислав Микке был одним из тех, кто хорошо это знал.
Процессы против забвения он выигрывал часто. Одной из последних его побед было «дело» Евгениуша Малачевского – гениально одаренного литератора, который умер очень молодым в 1922 г., не успев завоевать громкой славы, и был напрочь забыт после смерти. В сущности, Станислав Микке сделал очень простую вещь: прибил временную, как он надеялся, мемориальную доску у входа в санаторий «Санино» в Татрах, где Малачевский умер, и издал сборник его стихов и прозы. Но чего это стоило!
Рассказать в подробностях историю воскрешения творчества Малачевского теперь уже некому. Все, кто в этой истории участвовали – Станислав Микке, генеральный секретарь Совета Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Анджей Пшевожник и министр культуры Томас Мерта 10 апреля 2010 года оказались в одном самолете, который летел в Смоленск. Но Евгениуш Малачевский теперь уже не БЫЛ, он ЕСТЬ и БУДЕТ для нас и тех, кто будет после, как один из ярких польских писателей.
Этот пример – один из многих. Станислав Микке осознанно строил будущее, спасая от забвения прошлое. То, что он много лет был заместителем председателя Совета Охраны Памяти Борьбы и Мученичества, было в высшей степени логично. Равно как и то, что последние 20 лет его жизни были неразрывно связаны с Катынью.
Мы познакомились летом 1995 года в автобусе, который вез польских экспертов в Козельск – туда, где провели последние месяцы своей жизни офицеры, расстрелянные в Катыни.
Козельский спецлагерь размещался в известнейшем православном монастыре Оптина пустынь (превращать монастыри в места заточения, как известно, было особым шиком советского атеизма). С началом перестройки монастырь вновь стал монастырем и наследовал славу былой, дореволюционной обители, так сказать, автоматически. Что такое духовность оптинских старцев, мало кто себе представлял, но все были уверены, что в ней недостатка не будет, как только отреставрируют стены.
Перед монастырскими воротами нас уже ждали Генеральный консул Польши Михал Журавский и замминистра культуры РФ Вячеслав Брагин. Выражение их лиц не предвещало ничего доброго. И действительно: ворота Оптиной пустыни оказались заперты. Причем так крепко, как если бы мы приехали не на стареньком автобусе, а на танках и собирались брать обитель штурмом. Апелляции к христианским чувствам результатов не давали. Напоминания о существовании предварительной договоренности с настоятелем монастыря – тоже. Настоятеля нет, и никаких распоряжений перед отъездом он не давал.
Любой православный монастырь – это монастырь с очень строгим уставом. Но оптинские монахи издревле принимали светских людей для бесед, а в последние годы гостеприимно встречали не только паломников, но и толпы обычных туристов. Почему же мы оказались исключением?
В конце концов, Вячеслава Брагина, единственного среди нас православного, все-таки пустили за ворота для переговоров. Он вернулся через полчаса, красный, как из бани, и, стараясь не смотреть в лицо полякам, произнес буквально следующее:
– Оптина пустынь – это наша святыня, оплот русской духовности… Братия позволила вам на несколько минут пройти на монастырский двор, но велела предупредить: на территории монастыря строжайше запрещается возлагать цветы, зажигать свечи и молиться.
Да, он именно так и сказал, явно не осознавая абсурдность и мрачный комизм своих слов.
Экскурсовод привычно застрекотала что-то о кладке стен и особенностях сакральной архитектуры. Но навязанная братией роль экскурсантов нам давалась с трудом.
55 лет назад в этих стенах также пытались запретить молиться. И тоже, имея очень слабое представление о том, что такое молитва, считали, что это возможно. Перед самым Рождеством из лагеря вывезли всех священников, считая, что этого достаточно, чтобы никто не вспомнил о чуде Воплощения. Но морозный воздух звенел от колядок – изумленной благодарности Небу за солидарность с человеком в его страданиях.
«…Делимся оплатками и среди вздохов и слез поздравляем друг друга. А каждый всей душою и сердцем рвется к тем, кто всего дороже. Потом хлеб с селедкой и чай. Не могу притронуться к еде, отхожу в сторону и, рыдая, шлю в горячей молитве пожелания Стефе и Ханке» – так описывал рождественскую ночь в Козельском лагере один из его узников, имени которого при эксгумации установить не удалось.
Наверное, горячо молился о своей крошечной дочери Магде и Ян Миколай Коссовский, ротмистр кавалерии, награжденный за подвиги в войне 1920 года высшей воинской наградой – Крестом Virtuti Militari.
Магда выросла, стала археологом, доктором наук Марией Магдаленой Бломберг. В Катыни она, заместитель руководителя экспертной группы, удивляла коллег высокой степенью профессионализма, я же была потрясена другими ее способностями. Рано или поздно каждый, работавший в Катыни, оказывался на грани нервного срыва (было такое и со мной). Эта минута всегда приходила внезапно, неизвестно откуда и не понятно как. И каждый раз рядом оказывалась пани Магда, «всехняя мама», которая одна знала, что нужно сказать и сделать в такой момент.
Я смотрю на нее, материализовавшуюся более чем через полвека тоску ротмистра Коссовского. Пани Мария-Магдалена Бломберг неподвижна и внешне, как и все, абсолютно спокойна. Рядом с ней стоит ее коллега Войцех Смигельский. Его отец, улан Антоний Смигельский, тоже был узником Козельского лагеря, расстрелянным в Катыни.
– Молитесь ли вы о невинно убиенных, которые прожили здесь последние дни своей земной жизни? – спросила я монаха, закрывавшего за нами ворота.
Монах задумчиво посмотрел сквозь меня на заходящее солнце…
***
Скандал в Оптиной пустыни был – увы! – далеко не единственным событием, заставлявшем усомниться в искренности российских ораторов, много и громко говоривших в ту пору о примирении двух народов над катынскими могилами. В Смоленске и окрестностях все – от губернатора до горничных в гостинице – словно сговорились мешать проведению эксгумации в Катыни. Кто как мог, каждый по мере сил. Зачем? Чего добивались? Чтобы польские специалисты, в конце концов, не выдержали, все бросили и уехали? А вернувшись в Польшу, свидетельствовали: на земле, в свое время названной Юзефом Чапским бесчеловечной, за последние полвека ничего не изменилось, так что какое уж там примирение?..
Даже сегодня, через 15 лет после описываемых событий, я не могу уверенно и однозначно ответить на этот вопрос. Но и тогда, и сейчас ясно, что и успех эксгумации, и то самое примирение над могилами, и много других крайне важных вещей в огромной мере зависели от выдержки и мудрости горстки специалистов в Катынском лесу.
Если бы кто-то мог это предвидеть и сознательно отбирал членов экспертной группы по результатам психологических тестов, Станислав Микке, вне всякого сомнения, прошел бы такой отбор одним из первых. С обезоруживающе доброжелательной улыбкой, с мягкими, «довоенными» манерами, подражать которым теперь уже не пытаются даже актеры исторических фильмов, он понижал градус агрессии уже одним своим присутствием.
Долгое время мне казалось, что у него особая форма дальтонизма – он не видит черного, а порой принимает его за белое.
– Ты слышала? – с радостно блестящими глазами спрашивал он. – У N. голос дрогнул, когда он говорил о расстрелянных здесь.
– Ну да. Только у него не дрогнула рука, когда он подписывал бумагу, сильно осложнившую жизнь полякам.
Станислав смотрит на меня грустно – даже не укоризненно, просто грустно. Пройдет немало времени, прежде чем я начну понимать: черное, злое он видит не менее отчетливо, чем я. Но оно не в состоянии заслонить от него доброе, светлое. Даже если добра совсем немного, крошечная капелька, он ее разглядит и сделает все, чтобы вытащить ее из-под толстого слоя зла.
Однако никакого такого конкурсного отбора, разумеется, не было. Узнав, что в 1991 году планируется эксгумация в Катыни и в Медном под Тверью, Станислав Микке начинает загодя хлопотать о том, чтобы быть включенным в состав делегации в качестве журналиста. И очень волнуется, что его не возьмут, что найдется кто-то более известный, более достойный.
Скромность, порой доходившая до заниженной самооценки, была свойственна Станиславу Микке (нельзя же вовсе без недостатков!). В 1991 году он был достаточно известен как высококвалифицированный адвокат с безукоризненной репутацией. Был консультантом наиболее «юридических» фильмов Кесловского – «Короткого фильма об убийстве» и «Без конца». Был пресс-секретарем Верховного Совета адвокатов и заместителем главного редактора солидного, «толстого», как у нас сказали бы, журнала «Палестра» (в 1993 г. он станет его главным редактором). Кроме того – автором огромного количества статей, нескольких детективов, которые, правда, печатал под псевдонимом, и одной повести.
Разумеется, Станислав Микке получил аккредитацию. Так началась его миссия.
Он примет участи в эксгумациях и в 1994-м, и в 1995-м, и в 1996-м годах – в Катыни, в Медном, в Харькове. Но теперь уже в качестве члена экспертной группы, чьи функции определить одним словом совершенно невозможно. Он поднимал тела катынских жертв из могил, помогал в их исследовании и описании; и все, что приносил с собой каждый новый день эксгумации, фиксировал в своем дневнике. Из этих записей потом родится главная книга его жизни – «Спи, храбрый, в Катыни, Харькове и Медном». Единственная в своем роде.
Стали почти труизмом слова о том, что в 90-е правду о Катыни приходилось по частям добывать из-под земли. Но и сам процесс ее открытия, каждый сантиметр земли, сквозь которую к ней приходилось пробиваться, – это тоже история Катыни. Было бы глубоко неправильно, если бы дни эксгумаций не остались в памяти обоих народов такими, какими они были, – с живыми человеческими эмоциями, с подробностями, которые тогда могли показаться неважными, суждениями, которые позже могли оказаться ошибочными. У них должен был появиться именно такой летописец, каким стал Станислав Микке – свидетель далеко не бесстрастный, но способный быть справедливым, и главное, быть может, – с ощущением неразрывности собственного бытия и судьбы своего народа. Его свидетельство становилось пронзительно достоверным, оттого что было глубоко личным. Поэтому книга Станислава Микке была бы неполной, она была бы просто другой, если бы в ней не было последней главы, казалось бы, непосредственно с эксгумациями в Катыни, Харькове и Медном, не связанной. Главы о его поездке в Архангельскую область.
***
– Ты никогда не была в Ченстохове???
Глаза Станислава Микке сначала стали круглыми, а потом приняли какую-то замысловатую геометрическую форму.
– Я не была очень во многих местах, в которых бы следовало побывать.
– Да, но не быть в Ченстохове! Это – скандал. Завтра же едем.
И мы действительно поехали. И день встречи с Черной Мадонной стал одним из самых незабываемых в моей жизни. Впрочем, редко с кем бывало по-другому. Можно знать историю Польши, но чтобы понять ее, нужно приехать сюда. То, что осталось на страницах книг в виде событий, свершившихся фактов, стены Ясногурского монастыря впитали в себя в виде Гефсиманских молитв миллионов поляков, их трудных решений и надежд вопреки всему.
После мессы Станислав повел меня какими-то коридорами вглубь монастыря (сама я ни за что в жизни не нашла бы дорогу) и, наконец, подвел к седовласому старцу, облаченному в белоснежные одежды паулинов. Это был отец Теофил Краузе – живая легенда, близкий друг и соратник кардинала Стефана Вышиньского, один из тех, чья стойкость потребовалась Господу, чтобы исполнить обещанное: врата ада не одолели польскую католическую церковь в годы ПНР, напротив, поединок закончился ее триумфальной победой.
Отец Теофил был духовником трех поколений семьи Микке и в жизни Станислава занимал совершенно особое место. Начнем с того, что Станислава на свете могло и не быть. Врачи сказали его будущей маме, Галине Микке, что роды для нее смертельно опасны, да и младенец вряд ли будет жизнеспособным. Пани Галина отказалась прервать беременность. Но риск был так велик, что это граничило с самоубийством, которое, как известно, – тягчайший грех. Отец Теофил сказал тогда: «Ответственность я беру на себя». Что было дальше – это тайна о. Теофила и Бога. Но 11 сентября 1947 года Галина Микке благополучно родила совершенно здорового мальчика. Его назвали Станиславом в честь дяди, старшего брата отца.
Станислав Микке старший был участником войны 1919-1920 гг., потом осадником на Волыни.
Когда 10 февраля 1940 г. 52 тысячи красноармейцев и солдат НКВД отправились выселять семьи осадников, среди «лиц, подлежащих изъятию» была и семья Станислава Микке. Через 20 дней пути в закрытых товарных вагонах его с женой и четырьмя детьми высадили на станции Коряжма Архангельской области, а затем отправили на спецпоселение в поселок Харитоново.
Его описания жизни на поселении отличались мужественной сдержанностью. «Нельзя, понимаешь, нельзя слишком горевать о нас», – писал Станислав Микке брату, жившему в оккупированной немцами Польше.
Официальные документы были более красноречивы.
Жилищные условия спецпереселенцев неудовлетворительные (1, 5-2 м на человека, в ряде поселков люди спят на полу или общих нарах). Медицинское обслуживание ввиду отдаленности ряда поселков затруднено. Среди спецпоселенцев имеется много больных, не изолированных от здоровых. Имели место "вспышки" сыпного тифа и т.д. (Из письма начальника сектора по вопросам НКВД СССР П.Иванова тов. Вышинскому А.Я.)
Переселение осадников и беженцев протекало в тяжелой форме. Высокой была смертность, особенно осадников. С момента прибытия на спецпоселение и до 1 июли 1941 г. родилось 4211 и умерло 12313 чел. (Из справки начальника Отдела транспортных перевозок Главного управления лагерей НКВД СССР ст.лейтенанта М.Конрадова на имя Л.П.Берии)
В Надомском районе Архангельской области из 1549 спецпереселенцев, используемых на работе, 737 чел. не имеют обуви(…) бараки, столовые, медпункты, бани и другие коммунальные помещения не оборудованы необходимым инвентарем. Многие из них не освещались из-за отсутствия керосиновых ламп. Аналогичное положение и в спецпоселках других областей. (Из доклада НКВД СССР комиссара госбезопасности 1 ранга Л.Берии ЦК ВКП(б) тов.Сталину, СНК СССР тов. Молотову).
В июле 1941 года правительства Польши и СССР подписали соглашение, согласно которому все польские граждане, находившиеся в советских тюрьмах, лагерях и ссылках, должны были быть освобождены. Из их числа предполагалось создать польскую армию. Однако с армией Андерса, что общеизвестно, удалось уйти далеко не всем. И Станиславу Микке покинуть СССР было не суждено.
Комендант поселка Харитоново относился к числу тех мелких советских начальников, которые собственную значимость измеряли количеством зла, которое они способны причинить людям. Он не мог отменить Указа Президиума ВС СССР об амнистии, но вполне мог сделать так, чтобы документ об освобождении Станислав Микке, которого он невзлюбил с первого же дня, получил только в начале апреля 1942 года. К этому моменту людей, обремененных семьей, в армию Андерса уже не брали. В отделении Польского Представительства в Котласе, куда Станислав Микке наконец-то получил возможность явиться, ему велели вернуться в поселок и, вручив соответствующую бумагу, поручили его попечительству польских граждан, оставшихся в Харитоново и окрестностях.
По данным польского посла в Крота, в СССР, в местах заключения и ссылок поляков, в 1941-1942 гг. действовало 807 представительств польского посольства, в которых работали 2639 человек. Они распределяли одежду и продовольствие, поступавшее из США и Англии; на основе свидетельств бывших узников лагерей и тюрем составлялись списки тех, кто, вопреки уверениям советского руководства, все еще не был освобожден. Станислав Микке активно включился в эту работу.
За год он успел многое: организовал Дом для сирот и инвалидов в Тесовой, многим помог выжить. Но наступил 1943 год. Немцы открыли массовые захоронения польских офицеров в Катыни. На вопрос, который генерал Андерс и Юзеф Чапский настойчиво задавали советскому руководству – куда подевались польские офицеры, узники трех спецлагерей, – был получен ошеломляющий ответ.
Дальнейшее хорошо известно. Лучший способ защиты – это нападение. Поляков объявили пособниками Гитлера и – хуже того! – клеветниками России; дипломатические отношения между Польшей и СССР вновь были прерваны, представительства польского посольства закрыты. Для пущего эффекта А.Вышинский сделал 6 мая заявление для английской и американской прессы, в котором обвинил сотрудников польских представительств и благотворительных организаций в шпионаже. Именно поэтому, объяснял Вышинский, эти организации и закрыли.
Идеи высшего руководства были восприняты с энтузиазмом. Начались аресты. Но этого мало! Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 января 1943 года все лица, проживавшие к 1 ноября 1939 г. на территориях, вошедших в состав СССР, автоматически становились советскими гражданами. Политбюро рекомендовало « Лиц, демонстративно отказывающихся получить советские паспорта, а также всех подстрекателей к отказу, привлекать к уголовной ответственности». Ну и, разумеется, привлекли. И за «разведывательную деятельность», и за отказ от советского гражданства. За последнее «преступление» на два года была осуждена также жена Станислава Микке Юзефа и на полтора – его старшая 16-летняя дочь Галина.
Станислав Микке умер в тюремной больнице в Котласе 21 февраля 1944 года. Когда жена с детьми все-таки возвращались в Польшу, к поезду подошла медсестра тюремной больницы.
– На Макарихе твоего мужа похоронили. Запомнишь? Ма-ка-ри-ха…
Она запомнила. Это слово, похожее на имя лесного существа из русской сказки, глубоко проникло в память всей семьи и прочно обосновалось в послевоенной квартире младшего брата. Утешало по-своему в трудные минуты – ничего, люди и не такое переживали; помогало растить детей, следило, чтобы родители не переусердствовали в стремлении уберечь их от жестокой реальности.
Станислав Микке младший написал в своей книге: «В доме отца о нем (Станиславе Микке старшем) говорили много. Но почти всегда – о его участии в большевистской войне и образцовом хозяйстве на далекой Волыни, которое он вел, будучи военным осадником. Рассказы отца прерывались, как только он доходил до лет ссылки. Только став взрослым, я понял причины той сдержанности и осторожности, с которой отец раскрывал передо мной самые трагические страницы жизни своего брата. Он боялся отравить мою юную душу слепой ненавистью».
Отец выполнил свою задачу: душа сына была свободна от ненависти. Но и Макариха сделала свое. Станислав Микке говорил, что судьба дяди значила для него очень много, и часто в ответственный момент мысли о нем определяли его выбор. В том числе и решение участвовать в эксгумациях в Катыни, Харькове и Медном.
В 1997 году Станислав Микке младший отправился в Котлас искать Макариху. Так случилось, что я сопровождала его в этой поездке.
***
Макариха оказалась клочком земли между шоссе и городскими постройками, густо поросшим травой и кустарником, из которого кое-где торчали покосившиеся кресты и полуразрушенные надгробия. Когда-то здесь было городское кладбище. В сущности, это и теперь кладбище, но словно бы пораженное в правах, к которому никто уже как к кладбищу не относится. Явно не расположенные к размышлениям о вечном люди торопливо шагали по утоптанной сотнями ног дорожке, прорезающей Макариху наискосок, от автобусной остановки на шоссе к жилым кварталам. Город наступал – гаражами, сараями. Беспомощное кладбище старалось скрыться от него в густой траве, испуганно жалось к шоссе, где стараниями Совета Охраны Памяти Борьбы и Мученичества в 1995 году был установлен крест. Под крестом надпись: «1930-1939-1956. Полякам, россиянам и всем погибшим, замученным в котласских лагерях: матерям, отцам, сестрам, братьям, дочерям, сыновьям. Вечный покой. Вечная память. Соотечественники из Польши. Варшава 1995г.». Нам рассказывали, что время от времени у этого креста собираются несколько старушек, чтобы помолиться вместе. Такой же крест установлен на ДОКе, как здесь все говорят, то есть рядом с деревообрабатывающим комбинатом, который начали строить в 1947 г. на месте бывшего лагеря и, соответственно, лагерного кладбища.
За четыре лета эксгумаций (в 1991, 1994, 1995 и 1996 гг.) Станислав Микке видел многое – базы отдыха НКВД на могилах своих соотечественников, следы работы комиссии Бурденко, оставившей после себя беспорядочное месиво отдельных человеческих костей. И все-таки ко встрече с такой Макарихой он был явно не готов. Может быть, потому что представление о ней сформировалось в детстве, а представить себе человек может только то, что когда-либо видел. А значит, в худшем случае, – могильный холмик, поросший полевыми цветами, полустертые буквы имени, которое носит и он сам. Но чтобы вообще ничего, никаких следов!..
Мы тщательно исследуем каждый квадратный сантиметр кладбища. Нас четверо: Станислав Микке, я, член местной правозащитной организации Андрей Хмель и шофер Иван.
– Смотрите, здесь католический крест! – время от времени восклицает Станислав Микке, приглашая нас разделить его надежду. Иван и Андрей удивленно поднимают брови. Я молчу. Во-первых, почему бы этим крестам действительно не быть католическими в самом простом, узком понимании этого слова. Во-вторых, если смотреть на вещи шире, католическим, то есть вселенским, является любой христианский символ. Но из всех христианских крестов католический самый простой по форме – просто две доски, сколоченных крест-накрест, и возможно, на нечто более сложное людям не хватило дерева, времени, или чего-то еще.
Макариха сурова. Уж если судьба старшего брата отца привела Станислава Микке к могилам всех расстрелянных по решению Политбюро от 5 марта 1940 г., он должен быть готов к тому, чтобы стать над могилой всех репрессированных поляков, не вернувшихся с советского севера. Такой, какая она есть, – огромной и забытой людьми. Потому что это тоже часть их судьбы, их борьбы и мученичества.
Но для того, чтобы прикоснуться к судьбе многих тысяч, надо крепко обнять одного. В тот же день рядом с крестом, стоя на плечах Ивана, Станислав Микке прибивает на высоком дереве таблицу: «Светлой памяти Станислав Микке 1898-1944. Защитник польских ссыльных, замученный НКВД в лагере в Котласе. Пусть Польша приснится Тебе».
***
Через пару часов мы едем на ДОК. Заметив на обочине какую-то старушку, Иван неожиданно останавливает машину.
– Верно ли мы едем на ДОК, бабушка? Тут вот человек из Варшавы приехал, к землякам на могилку…
– Из Варшавы?.. – Старушка смотрит на Станислава Микке пристально, как если бы могла и старалась его узнать. – Я была однажды в Варшаве. Девочкой… Вместе с отцом…
И вдруг начинает говорить торопливо, словно боясь, что ее прервут, о том, как однажды ночью их разбудили и, не дав толком собраться, увезли куда-то. Как было холодно в бараке и как мучительно хотелось есть. Всегда. Даже во сне. Вместе с другими девочками-подростками она обрубала сучья деревьев, которые валили взрослые мужчины. На работу надо было идти каждый день почти 10 километров. Не все доходили – морозы были страшные, бывало, замерзали прямо на дороге. Раз в неделю проезжала подвода и собирала замерзшие трупы, … За это начисляли трудодень, как за любую другую работу. Потом вышла замуж за русского, стало немного легче. Ну а потом… Как у всех…
– А на ДОК вы верно едете. Вот так по этой дороге и поезжайте.
– Спасибо, бабушка.
– Что вы! – Она вновь долго и пристально смотрит на Станислава, словно бы пытаясь разглядеть в его лице нечто очень для себя важное. – Это вам спасибо, что спросили меня. Поговорили со мной… Вот уж не думала, что даст Господь перед смертью… – И вдруг улыбается светло, как умеют только дети, как улыбалась она, наверное, красотам согретой солнцем Варшавы лет шестьдесят назад.
Так неотрывно, пристально будут смотреть на Станислава Микке еще не раз.
В начале 90-х Котлас, небольшой городок с 60-тысячным населением, покинули шесть тысяч жителей, то есть каждый десятый. В основном это были Шульцы, Гроссманы, Вульфы – советские люди, нередко имеющие в паспорте запись «русский». Они уехали на свою историческую родину, то есть в Германию, которую большинство из них никогда не видели, поскольку были они из поволжских немцев, репрессированных в годы войны.
Вишневские, Гриневичи, Врубели остались. Многие из них уже не говорят по-польски, многие вместо ответа на вопрос, кто вы по национальности, неуверенно пожимают плечами. Они похожи на поляков, живущих в Польше, не больше, чем березы, растущие за полярным кругом, на те, что шумят в Лаженках. Изогнутые ледяным ветром, припавшие к земле, они вроде бы совсем утратили родство со своими сестрами из средней полосы. И все-таки это березы. И елками они быть не могут, даже если очень захотят.
Полсотни лет они здесь страдали и надеялись, влюблялись, ревновали, растили детей, одним словом – жили. Не только русский север оставил на них свою неизгладимую печать, но и они стали неотъемлемой его частью. Стал ли он для них родиной, хотя бы второй? Или это по-прежнему только место ссылки?
А собственно, что такое родина? ХХ век перечеркнул утверждение немцев «родина там, где стояла твоя колыбель». Миллионы младенцев рождались на чужбине, впитывая с молоком матери тоску по родине, которую далеко не всем дано было когда-нибудь увидеть. Стала также неактуальной формула сначала восточных, а потом практически всех европейских культур – «Родина там, где могилы твоих предков». Сколько предков навсегда остались лежать в чужой земле и сколько потомков даже не знают, в какой именно!.. А может быть, родина – это земля, с которой тебе есть что вспомнить? Которая хранит память обо всех твоих радостях и печалях, тем самым питая твою память о ней, обеспечивая основание народной ментальности – общей памяти?
***
Котласский краеведческий музей поражал ощущением пустоты. Нет, дело было не в отсутствии посетителей – это общая беда многих европейских музеев. Здесь отсутствовал сам предмет хранения – правдивая история края. Чучела птичек и рыбок старались скрыть эту зияющую пустоту, но со своей задачей справлялись плохо. На прямой вопрос – есть ли что-нибудь о ссыльных и спецпереселенцах, сотрудники музея только беспомощно развели руками. Но СМИ уже несколько лет утверждают, что местная правозащитная организация «Совесть» располагает архивными материалами. – Скорее всего, да. Но они все у Ирины Дубровиной, руководительницы этой организации (сотрудники музея даже никогда этих материалов не видели), а г-жа Дубровина сейчас в США.
С какой целью и каким образом можно было приватизировать память целого края – этот вопрос сотрудникам музея было задавать бессмысленно. Ну а как доехать до деревне Тесовая, где в 1942 году Станислав Микке старший организовал Дом для сирот и инвалидов? Никак. В Тесовой уже лет 30 никто не живет, дорога туда давно заросла, даже о том, что была такая деревня, помнят только старики; а уж о том, что в ней когда-то был детский дом, никто, включая сотрудников краеведческого музея, даже не слышал.
Утром следующего дня мы едем в Харитоново, где жил вместе с семьей спецпереселенец Станислав Микке старший и где для Станислава Микке младшего каждая щепка – реликвия и каждый пригорок – памятник.
Харитоново предстало перед нами именно таким, каким и можно представить себе спецпоселение. Каким чудом все эти наспех сколоченные деревянные избушки и бараки продержались без малого 60 лет?! Но оказалось, что самому давнему строению в Харитогово не более 20 лет. Поселок многократно перестраивался, менялась планировка улиц, но неизменным оставался особый архитектурный стиль, отличительной чертой которого являлось отсутствие надежды строителя на долгое счастье и благополучие в возводимом доме. «Да ладно, – словно приговаривал он, вбивая каждый гвоздь, – сойдет, перезимуем… Бог даст, не век тут жить».
Где стоял до войны Дом культуры, в котором спецпереселенцы провели в страшной скученности первые дни, где были их бараки – об этом не помнит никто. В это трудно поверить, особенно Станиславу Микке, и он колесит по поселку в поисках людей старше 60-ти. Ведь не может быть, чтобы не осталось никого, кто помнит!
Стариков в поселке много. Вот только все они переехали сюда в середине 50-х, – вернее, им велели сюда переехать – из точно таких же спецпоселков на Колыме, под Магаданом, за Уралом. А тех, кто жил здесь, переселили на Колыму, в Магадан, за Урал. Зачем? Затем же, зачем в 30-е годы уральских парней и девчат везли на строительство Днепрогэса, а ребят с юга страны везли на великие стройки Урала. Заинтересовавшись этой проблемой еще в конце 80-х, я выяснила (на основании совершенно официальных статистических данных, тогда еще советских), что в огромной стране практически никто не живет там, где родился и вырос его дед. Иными словами, одна шестая часть суши заселена людьми, чужими земле, на которой стоит их дом. Узнать, как прежде называлась родная улица, какие здесь цвели сады и какие игрались свадьбы; что в представлении дедов-прадедов было добром, а что – злом, каждое новое поколение может только из книг. В живой человеческой памяти, передающейся от поколения к поколению, сохранилось крайне мало. История наша насквозь писаная. А потому переписывать ее можно сколько угодно; и уже тогда, на заре перестройки, людям можно было подсунуть под видом «наших корней, наших истоков» практически любой бред.
Могли ли оставить спаянные годами общих страданий сообщества бывших пленных и ссыльных? Это вопрос риторический. Разумеется, их «рассеяли» – по сотням бывших спецпоселков, повсюду одинаковых, как куриные яйца, – и теперь уже никогда индивидуальные воспоминания каждого не срастутся в общую память.
Мы стоим на высоком крутом берегу Вычегды. От ее красоты перехватывает дыхание. Забыть ее невозможно. И она помнит все. Возможно, где-то есть реки забвения, но это – река памяти. В самые беспросветные северные ночи она помнила о солнце. И оно действительно всходило. Река ломала ледяные стены своего каземата и вновь разливалась, спокойно, почти лениво, и каждому, кто взглянет на нее, как на медный змей Моисея, напоминала о том, ради чего стоит жить.
Нет, все было не зря. Хотя и не так, как представлялось в Варшаве. Станислав Микке не нашел на Макарихе могильного холмика с дорогим ему именем, не прикоснулся к стенам барака номер шесть, где росли его двоюродные братья и сестры, но он прошел по этой земле, увидел и узнал ее. И теперь она для него не такая уж и чужая, а значит, тем, кто навсегда остался в ней, лежать здесь будет не так одиноко.
А еще – об этом я узнала только здесь, на берегу Вычегды, – из Москвы, Котласа, Коряжмы, и вот теперь – из Харитонова Станислав Микке отправлял письма дочери.
– Ей же всего два с половиной года!
– Она прочтет их, когда вырастет, когда ей исполнится 18 лет.
Сегодня, когда я пишу эти строки, Касе Микке нет еще и 16-ти. Значит, письма еще не прочитаны, они еще в пути; письма отца, живого и сильного, державшего в теплых ладонях начало ее жизни. И тем не менее они уже есть, еще не наступившее будущее существует, как существует и уже свершившееся прошлое.
***
Теперь из слабости добудем силы,
Из слов летучих – книгу, из могилы –
Жизнь, свет из мглы, чтобы увидеть тени
При свете, взять плевелы от растений.
Под мерный аккомпанемент вагонных колес Станислав Микке вслух читает Норвида. Мы едем в Архангельск. Сквозь вагонное окно льется свет, которого не должно быть, – ведь на часах полночь. Но солнце, отоспавшись за зиму, не хочет уходить за горизонт, давая людям дополнительный шанс разглядеть красоту этой земли и полюбить ее. Я завороженно смотрю в окно, изумленная гармонией света русского севера и звуков польских стихов. Кажется, что они рождаются вот сейчас, в это мгновение, этой землей и тянутся к небу, окрашивая собою воздух.
В Архангельске Станислав Микке по заданию Совета Охраны Памяти Борьбы и Мученичества должен будет выяснить, есть ли шанс найти могилы репрессированных поляков, в частности солдат, умерших в лагере НКВД № 211, находившемся близь деревни Тараканово.
В течение двух дней мы будем гостями Констанции Струсевич, польки, семью которой депортировали из Хмельницкого еще в начале 30-х годов. С тех пор она мечтала уехать в Польшу. Я не участвовала в ее беседе со Станиславом Микке, которая продолжалась почти всю ночь, и не могу сказать, почему даже через 12 лет после начала перестройки мечта эта все еще оставалась мечтой. Знаю только, что через год после встречи с Микке 70-летняя Констанция Струсевич наконец-то поселилась в Варшаве.
Пани Констанция не смотрела на Станислава тем неотрывным взглядом, каким смотрели на него поляки в Котласе и Харитоново. Но она не отходила от него ни на шаг, боясь упустить хотя бы мгновение общения с ним. На следующий день к нам присоединилась тридцатилетняя Людмила Попова, член созданного Констанцией Струсевич крошечного польского культурного общества.
Архангельск был щедр к нам на добрых людей и неожиданные встречи.
Во время «официального» визита Станислава Микке в областную администрацию, когда все традиционные слова о братстве двух народов и общей скорби о жертвах тоталитаризма были сказаны, к Станиславу подошел завотделом по связи с общественностью Виталий Николаевич Степанов. Он отвел Станислава Микке в сторону и как-то застенчиво, словно намеревался завести речь о том, о чем говорить не принято, сказал:
– Старший брат моего отца, Иван Андреевич Степанов, погиб в Польше. Мы до сих пор ничего не знаем – ну, где похоронен… и вообше…
Старший брат отца? Напиши такое в сценарии или повести, и тебя поднимут на смех. Таких совпадений не бывает! Но действительность плевать хотела на то, какой способ ее отображения кажется нам правдивым.
– Вот, – Виталий Николаевич протянул Станиславу Микке пожелтевший листок бумаги. – Похоронка еще в войну пришла, и больше ничего. Нельзя ли как-нибудь…
Я заглянула через плечо Станислава. «Погиб смертью храбрых… Малецкий район…Краковский погост».
Когда мы вышли на улицу, Станислав, глядя прямо перед собой, пообещал кому-то:
– Я все Польшу носом перерою, но найду эту могилу.
– Можешь, – говорю я. – Перерыть носом Польшу можешь вполне. Но вот найти могилу – вряд ли. Если Малецкий повят существует (район – это повят, тут все ясно)…
– МЕлецкий, такой повят есть.
– Тогда надо проверить, нет ли в нем деревни Краков – мало ли! – потому что погост – это деревенское кладбище, а не кладбище вообще… Но скорее всего, дело было так. Бойцы продвигались с боями в заданном направлении, оставляя на месте сражения не только убитых, но и раненых. Когда все закончилось, пересчитали живых. Семьям тех, кого не досчитались, надо было что-то написать. «Пропал без вести» – эта честная, в принципе, формулировка означала, что никакой помощи от государства вдове и детям не будет, и относится к ним будут, как к семье врага народа. «Пал смертью храбрых» – это звезда на воротах и, главное, дополнительные граммы хлеба на военный паек. Но тогда уж нужно было указать и место погребения. Вот и писали, что называется, с потолка…
– Ты думаешь, – никогда не слышала, чтобы голос Станислава Микке звучал так неуверенно. – Ты думаешь, ему надо об этом сказать?
– Я думаю, что он понимает это не хуже, чем я. Но искать одного почти без надежды найти – это куда больше, чем поставить памятник всем погибшим и пропавшим, неопознанным и безымянным. Это значит – оказать сопротивление системе, обрекающей человека на беспамятство при жизни и забвение после смерти. И еще я думаю, хорошо, что вы встретились.
***
А могилы 36 польских солдат, умерших в лагере под Архангельском, мы все-таки нашли…
Деревня Тараканово (как же надо любить свою малую родину, чтобы дать ей такое имя!) самостоятельной административной единицей давно уже не являлась и находилась в пределах, принадлежавших Новодвинску, городу-спутнику Архангельска. Туда мы и отправились ранним утром следующего дня.
В Польше в свое время построили город Новая Хута (хута, если кто не знает, это большой завод), который должен был стать зародышем и символом новой жизни. На территории бывшего СССР Новозаводсков, Новошахтинсков, Новопролетарсков и проч. было, что называется, не меряно. Что было в них принципиально нового? Тем, кому не дал исчерпывающего ответа на этот вопрос вид домов и улиц, с которых словно бы кто-то грязной тряпкой стер всякие следы человеческой индивидуальности, следовало бы побывать в Новодвинске. Строители всех новоградов исходили из принципа, что человек рождается исключительно затем, чтобы стать частью производственного процесса. Никто не предполагал наличия в живой рабсиле каких-то сложных эстетических, и уж тем паче – духовных потребностей. Но чтобы забыли о том, что человек должен дышать – так далеко, пожалуй, никто не заходил. А в Новодвинске дышать было нечем в самом прямом, буквальном смысле слова. Едкий, густой смрад парализовал дыхание в первое же мгновение, как только мы вышли из автобуса.
– И часто у вас так? – спрашиваю я парней на остановке. Парни переглянулись.
– Приезжие? Сегодня еще ничего, считайте, вам повезло. А вот когда ветер со стороны Комбината задует, тогда действительно…
Понятно, что при таких условиях эксплуатации рабсила должна быстро изнашиваться. Ну так она ведь самовоспроизводящаяся, ее закупать не надо!..
Пройдя метров сто от автобусной остановки, мы оказались на промышленной свалке – опоясанном несколькими рядами труб, довольно обширном пространстве. Трубы во многих местах были перемотаны изолентой, но все равно протекали, выпуская из себя ярко-розовые, желтые и зеленоватые лужи. Далее возвышались пирамиды, сложенные из наполненных чем-то зловонным полиэтиленовых пакетов и ржавых консервных банок, то есть обычная городская свалка. Из последней такой пирамиды торчал православный крест. Сие означало, что примерно в этом месте свалка бытовых отходов плавно переходила в кладбище. Правило, руководившее жизнью новодвинцев, установило также иерархию новодвинских свалок: сначала производство, потом остатки дозволенных бытовых радостей и только потом, в последнюю очередь, – то, что осталось от человеков, когда они свое отработали. Именно этим маршрутом жители города провожают в последний путь своих близких, другой дороги на кладбище попросту нет.
Кресты и надгробия с пятиконечными звездами простирались до самого горизонта. Но место это никак не ассоциировалось с вечным покоем. Могилы беспорядочно находили одна на другую, между ними отсутствовали не только аллеи, но даже тропинки. Не думаю, чтобы здесь легко было найти даже недавние захоронения. И словно в подтверждение моей мысли мы встречаем мужчину и женщину, которые беспомощно кружат по кладбищу, каким-то сложным путем пытаясь определиться на местности.
– Скажите, где находится администрация кладбища?
-Нет здесь никакой администрации. И никогда не было.
– Да как же вы хороните?
– Очень просто. Родственники сами находят свободное место, сами роют могилу.
Нетрудно догадаться, что в такой ситуации «свободным местом» давно уже стали не только кладбищенские аллейки, но и более ранние захоронения.
Надо возвращаться. Но по дороге мы решаем зайти в новодвинскую мэрию. Пусть знают, что мы ЭТО видели.
Однако именно там, где мы не ждали ни помощи, ни сочувствия, нам встретился человек, которого Станислав Микке будет долго вспоминать с благодарностью.
***
Александр Варлыгин был типичным русским интеллигентом, словно сошедшим со страниц чеховских рассказов. Главный архитектор Новодвинска, он не мог и давно уже не пытался что-то изменить в этом городе, но с другой стороны, сохранял неизменными и свои представления о том, что должно и правильно.
– Вы не там искали, – говорит он и разворачивает перед нами карту. – Нет-нет, снимать не надо, карта секретная – предупреждает Варлыгин, заметив в руках Станислава Микке фотоаппарат. – Я вам потом другую нарисую. Такую же, но без печати.
Александр Варлыгин рассказывает, что ребенком любил играть на странном кладбище, где вместо надгробий были дощечки, а на них вместо человеческих имен цифры. Там лежали заключенные, об этом все знали. В 70-е годы через это место должна была пройти ЛЭП, и кладбище должны были ликвидировать. Но кто это должен был сделать? МВД, в ведомстве которого находилось кладбище? Организация, которая вела строительство? городская администрация? Пока спорили, ЛЭП провели, а кладбище так и осталось, только теперь уже ничейное, условно ликвидированное.
– Там всего одна опора стоит, могилы, в сущности, остались нетронутыми.
Мы втискиваемся в старенькие жигули Александра Варлыгина, при этом почему-то очень волнуемся.
– Полвека лежали там одни-одинешеньки, – причитает Констанция Струсевич. – Никто свечки не зажжет, не помолится…
Из этих 36 «репрессированных польских граждан» только один прожил на свете чуть больше тридцати лет. Остальным в момент смерти было 22-23 года. Стало быть, репрессировали их вообще мальчишками. За что? Этот многовековой вопрос, озвученный некогда Львом Толстым, так и остался без ответа. И только ветер, который, по изумленному замечанию одного чеховского героя, «дул при Рюрике, дул при Иване Грозном и пройдет еще 200 лет, а он все так же будет дуть», колышет траву над безымянными могилами.
Варлыгин останавливает машину, как кажется, в чистом поле.
– Вот там. Не доходя нескольких метров до той опоры.
По пояс в густой траве двигаться очень трудно, но перед Станиславом Микке трава словно бы расступается. Он идет быстро, так что поспевает за ним, как ни странно, одна Констанция Струсевич.
– Стойте, – кричит отставший на несколько шагов Варлыгин. – Это здесь.
«Здесь» практически ничем не отличается от «там». Но если внимательно вслушаться в то, что звенит внутри… Да, это здесь. Мы пришли. Двое русских, две обрусевшие польки, поляк из Варшавы. Мы не могли не прийти. Иначе как же мы узнаем, откуда мы, кто мы, куда мы идем…
***
Через два дня в московском аэропорту Домодедово я прощаюсь со Станиславом Микке. Впереди у нас 13 лет дружбы. Тысячи телефонных звонков, мэйлов, sms-ок; иногда встречи в Варшаве, Москве, Смоленске. Многое в моей жизни произошло при непосредственном участии Станислава Микке, с его помощью, по его инициативе. Но сколько раз я поступала так, а не иначе, потому что в какой-то момент нашей встречи, который память не сочла нужным сохранить, на каком-то повороте совместно пройденного пути, который я не заметила, во мне что-то сдвинулось, изменилось, проявилось, или, наоборот, исчезло?
Последний раз Станислав Микке звонил мне 9 апреля. До вылета в Смоленск оставалось меньше суток. Он только что получил из типографии второе издание своей книги и был откровенно счастлив.
– А книга красивая? – спрашиваю я, зная, что обложки – это его «пунктик». – Покажешь сегодня вечером по скайпу?
– Сегодня вечером?.. Мне завтра вставать перед рассветом.
Действительно. Как же я могла об этом не подумать!
– Может, лучше завтра вечером, когда вернусь из Смоленска? Все равно ведь позвоню, расскажу обо всем подробно. Тогда уж и книгу покажу…
…Будь благословенна моя безалаберность, по причине которой я порой месяцами не уничтожаю прочитанные мэйлы и sms-ки! Теперь я осторожно, боясь что-то случайно стереть, отыскиваю сообщения с его номером и адресом. Вот это, кажется, пришло недавно. Да, в марте. Помнится, я написала ему: «У тебя все в порядке? Ты две недели не подаешь признаков жизни». И он мне ответил со свойственным ему мягким, едва уловимым юмором:
«Я жив. Со мной ничего не может случиться».